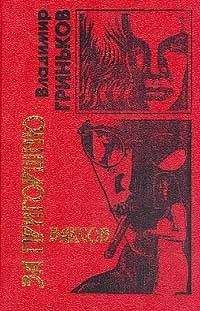Джеймс Риз - Досье Дракулы
— Мистер Стокер, постойте!
— Да, мистер Пенфолд, что вы хотите?
Я подошел поближе к решетке. Мне пришлось опуститься на колени, чтобы услышать вновь звучавшие вполне здраво слова Пенфолда: они заглушались колпаком, сквозь ротовую щель которого сочилась кровь, тогда как грубо сделанные прорези для глаз увлажнили слезы.
— Мистер Стокер, — сказал он, — если вы верите, как верю я, в то, что я имею право покончить с собой, и если бы вы, мистер Стокер, смогли донести это убеждение до персон, облеченных властью, которые разрешили вам прийти сюда сегодня, я бы, мистер Стокер, пребывал в неоплатном долгу перед вами до самой своей кончины. Вы меня понимаете, сэр?
Я глядел на несчастного, не зная, что и сказать. С одной стороны, мне не пристало перечить здесь доктору Стюарту, но и отмахнуться от мольбы мистера Пенфолда: «Позвольте мне умереть» — я не мог, поэтому молчал, чего-то ожидая.
— Всего доброго, мистер Пенфолд, — сказал я наконец.
— Всего доброго, мистер Стокер, — отозвался он, и я мог только строить предположения о том, что он услышал в моих… не словах даже, а в том, что осталось невысказанным.
И что именно должен был я ему сказать? Об этом мне оставалось только гадать, зная к тому же, что отныне мистер Пенфолд будет посещать мои сны, не отпуская меня и в часы бодрствования.
— Мисс Терри, — окликнул он, когда мы уже собрались уходить: нам с Эллен обоим не терпелось вернуться в мир за пределами обветшавших стен Степни-Лэтч. — Для меня было большой честью увидеть вас.
— Мистер Пенфолд, — отозвалась она, обернувшись к узнику. — Я буду молиться о том, чтобы, если нам суждено встретиться снова, это произошло при обстоятельствах, более благоприятных для вас.
— Вы добры, мисс Терри, но если бы у меня возникло желание молиться, я молился бы о том, чтобы больше никогда не увидеть ваше милое лицо, ибо единственные обстоятельства, более благоприятные для меня, исключают такую возможность… Всего доброго, мисс Терри.
— Всего доброго, мистер Пенфолд.
И мы поспешно распрощались с лечебницей для душевнобольных в Степни-Лэтч, отклонив показавшееся нам странным предложение доктора Стюарта выпить чаю.
Поезд, отходивший из Парфлита в 2.20, доставил нас обратно в «Лицеум» к Генри. Дорога прошла в молчании, если не считать слов Эллен:
— Ты видел это… ужасное нечто, мелькнувшее в глазах бедного мистера Пенфолда, когда он в таком обвинительном тоне заговорил с доктором Стюартом о своем заключении. Меня это просто выбило из колеи.
— Прости, Эллен. Может быть, нам вообще не стоило туда приезжать?
— Но ты видел это, Брэм? По-моему, это именно тот, если можно так выразиться, огонь очей, который выделяет безумцев среди нас.
— Прости, — повторил я. — Ничего подобного не заметил.
— Любопытно, весьма любопытно. Я точно видела в его глазах… что-то такое, чего, надеюсь, больше никогда не увижу. И может быть, ты прав: наверно, нам не следовало сюда приезжать. Это была глупость с моей стороны, Брэм, за которую я приношу извинения. Если я что-то и узнала, то, боюсь, долгое время сама не пойму, что именно.
После этих слов вновь повисло молчание, и мы вновь принялись любоваться пейзажами, проплывавшими за окнами поезда.
Конечно, я тоже заметил нечто, упоминавшееся Эллен, увидел искры, вспыхивавшие в глазах пациента. Но что это было? Приписывать это безумию я склонен куда менее, чем она, но не было ли там угрозы, исходящей от маньяка, зацикленного на одной идее, одном намерении? Может, и так, но стоит ли говорить об этом Э. Т. и пугать ее еще больше? Ибо, будь я откровенен до конца, мне пришлось бы сказать, что точно такой же, по ее выражению, «огонь очей», как у мистера Пенфолда из Степни-Лэтч, мне не так уж давно довелось видеть в глазах Фрэнсиса Тамблти.
А с ним, если он явится в пятницу на собрание ордена, выманив приглашение у какого-нибудь принципала, павшего жертвой его гипнотических ухищрений, я разберусь как следует, до конца. Не посмотрю, что он приятель Кейна.
Ну вот, за писаниной не заметил, как прошел еще один день: миновала полночь, и настал четверг, 31 мая.
Пусть сон снизойдет быстро, как опускается занавес после последнего акта.
Пусть он будет без сновидений.
И пусть встреча в пятницу будет исполнена смысла.
Дневник Брэма Стокера[113]
Воскресенье, 10 июня 1888 года
Он был там.
Нечто, не знаю, что именно… Вкратце. В эту пятницу, 1-го, произошло нечто, имеющее непреходящее значение, и сейчас я чувствую, что пишу эти строки по причинам иным, отличным от тех, из-за которых я начал вести дневник. Я должен записывать, заносить на бумагу каждую мелочь, как это происходило. С помощью шифра я засекречу эти страницы, пока течение времени не придаст им окончательную форму. Да, сейчас больше, чем когда-либо, я осознаю, что веду не просто дневник, а хронику, хотя располагаю лишь немногими фактами и испытываю смутные опасения.
Я прибыл в назначенное место и к назначенному часу.[114] На углу улицы меня встретил мальчик, который предложил мне следовать за ним к ближайшей двери красного цвета, без номера. Он постучал в нее и быстро исчез, в его кармане позвякивали заработанные монеты. Дверь открылась, и я увидел стоявшую в тени К. У.,[115] которая молча пропустила меня в ничем не украшенную комнату с высокими окнами на уровне тротуара. Она задвинула темные занавески, не оставив другого света, кроме света свечей.
Казалось, сейчас не время для обмена любезностями или вопросов о друзьях и близких. К. лишь произнесла загадочную фразу:
— Qui patitur vincit?[116]
Что ответить на это, я не знал. По счастью, никакого ответа и не потребовалось. Вместо этого К. отвела меня в угол комнаты — своего рода прихожую, отгороженную трехстворчатой ширмой из резного красного дерева, на которой, несмотря на полумрак, я разглядел знаки и письмена. Сама К. удалилась в противоположный угол и скользнула за похожую ширму. По шороху ее шелков я понял, что она переодевается. Обнаружив балахон, веревку и тапочки — все белое и примерно моего размера, — я последовал ее примеру, сняв сюртук, но оставив жилет под опоясанной веревкой хламидой. Замечу, однако, что, будь скептицизм водой, мой котелок уже почти бы выкипел, если бы я не был столь привязан к Констанции[117] и если бы не то обстоятельство, что Биллиам происходит из уважаемой семьи. Я вполне мог бы откланяться, не узнав ничего толком ни о каких-то обрядах ордена, ни о его raisons d’etre,[118] ибо сразу почувствовал, что этот орден определенно не для меня.[119]
Увы, я не ушел. И таким образом, продолжаю.
Констанция вышла из своего угла одетая в черную тунику, белая веревка трижды обернута вокруг талии. А вот туфельки были красными, и, когда она подошла ко мне, под черным колоколом одеяния ее ноги казались омытыми кровью. Она встала на цыпочки и накинула мой капюшон мне на голову, поцеловав в щеку и прошептав — совершенно не к месту, или так мне показалось тогда — что-то о сэре Уильяме, кажется хвалебное, после чего опустила мой капюшон и, надев собственный, вывела меня из Преддверия[120] и ввела в собственно храм.
В храме нас было двенадцать — десять адептов и два неофита (один из которых я), но я не сразу занялся подсчетом облаченных в ритуальные одежды членов ордена, поскольку все мое внимание занял сам храм.
Храм, или зал новообращенных, не поражал ни размерами, ни архитектурным великолепием. Впрочем, его архитектурный облик скрывало своеобразное убранство. Стены прятались за панелями из натянутого на деревянные рамы полотна, походившими на декорации «Лицеума». Таких панелей было семь — каждая высотой в 8 или 10, а шириной в 10 или 12 дюймов. Составленные впритык, они делали храм похожим на семиугольный шатер. От этих панелей к вершине стоявшего в центре в качестве опоры позолоченного шеста устремлялись пелены из белого шелка. Они тоже были разрисованы, хотя слово «разрисованы» не совсем точно описывает этот высокохудожественный декор, выдержанный в стиле догматов ордена.
Все было египетским. Пока я стоял, в изумлении уставившись на стены, на меня, в свою очередь, несомненно, были устремлены взгляды адептов. Осмелюсь заметить, что мой интерес к ордену Золотой зари возрос. Констанция действительно упоминала о Египте, чтобы завлечь меня в орден, но ничто из сказанного ею тогда не подготовило меня к тому, что я увидел сейчас. Зато часы, проведенные мной в библиотеке сэра Уильяма, не прошли даром, и я смог идентифицировать окружающую обстановку.
Семь шелковых пелен, которые поднимались от стен, образуя потолок, иллюстрировали Ам-Дуат, или «Книгу того, что есть в преисподней». А если точнее, на них были начертаны иероглифы и изображен посмертный путь фараона: его путешествие по царству мертвых с богом солнца Ра в ладье ночи — и его воскрешение или реинкарнация на рассвете следующего дня вместе с солнцем. Там, на носу ладьи ночи, стоял Сет, защитник мумии фараона, изображенный на потолке храма с его возносящейся душой (духом).[121]