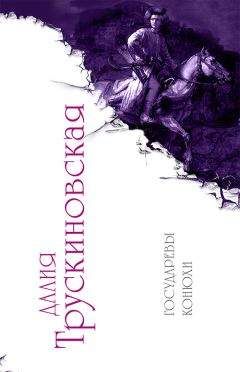Далия Трускиновская - Деревянная грамота
В приказе Стеньку встретили яростно:
— Где тебя, дурака, носит? Женка твоя приходила! Беги скорее! Недалеко ушла!
Хлопнув себя по лбу, Стенька понесся через торг, высматривая статную Наталью…
* * *— Куда поволок? — негромко спросил Озорной. — На что тебе?
— В прошлые разы ведь брали, — напомнил Данила, держа обеими руками кругло скроенную из грубого сукна и проолифленную, чтобы не промокала, епанчу. Накинутая поверх тулупа, она заменяла конному дом родной.
— В прошлые разы мы караулили. А теперь — не то… Тулуп надень, подсаадачник свой прицепи, еще пистоль за пояс сунь…
Собирались на дело.
Данила был нетерпелив — первым оседлал Голована и вывел на двор.
В Кремле было тихо. Раз в час перекликались на башнях сторожевые стрельцы — а больше и шуметь-то некому. Разве что петухи в птичнике заорут поочередно. Если кто по ночам на конюшне в очередь дневальничает — тот уже от скуки тех петухов по голосам распознает.
По зимнему времени вся Москва спать укладывалась рано — и кремлевский Верх всем служил примером. Пусты делались улицы и открытые места перед храмами, непривычно велика становилась Ивановская площадь, обычно забитая пестрым людом. Если кто имел в Кремле двор или хоть хиленький домишко уже давно, отужинав и помолившись, сны смотрел. А дворы-то были у бояр, а в домишках иных, рядом притулившихся, и нищие жили, им это удобно проснувшись, сразу на промысел свой бежать. Давно уж собирались тех нищих выселить, да как-то все не получалось.
Тишина была удивительна и прекрасна. Данила невольно задрал голову. Вызвездило, и каждая звездочка виднелась отчетливо, словно аксамитовый полог, за которым — неземной свет, изнутри острым шильцем проткнули. И хорошо было стоять, любуясь небом, и мысли в голове складывались какие-то уж больно чистые и разумные: есть же там, в вышине, Господь, и видит он, как четверо конюхов снаряжаются, и, если попросить, благословит их брать деревянную грамоту…
Молитва сама пришла на уста.
Последние слова были поспешны — Богдаш и Семейка уже выводили крепеньких, гривастых бахматов, последним появился Тимофей со своим каурым Лихим.
— Ну, Господи благослови! — сказал он, крестясь на высь небесную. И это было правильно — без посредства образов соединить себя с Господом знамением креста, ощущая душой, что так Он, пожалуй, ближе, чем в храме, где стоишь заутреню…
Калитка у Боровицких ворот была нарочно так устроена, чтобы конюхам незаметно из Кремля выбираться. Они и отправились без лишних разговоров впереди Богдаш на темно-карем Полкане, за ним прочие. Данила, как ни горела душа, ехал последним, еще и потому, что кони так устроены: что первый делает, то и остальные. Коли Полкан, Лихой и Ворон идут грунью то и вредный Голован себе воли не дает. А поставь его первым — не обрадуешься.
Все было оговорено заранее, всадники молчали. Только Семейка уже у самого Охотного ряда позволил Даниле себя нагнать и сказал тихонько:
— При мне держись, свет.
Данила вздохнул.
Тимофей еще при сборах предупреждал, что затея может кончиться ничем. Женка, которую Богдаш улестил-таки и добился тайного свидания, сказала, что живет с мужем как раз за печатным двором, так что и ходит он на службу не через главные ворота, а огородами. Вот сейчас Желваку и предстояло попасть на Печатный двор именно этим, не всякому известным путем, минуя стрелецкие караулы. И там уж всеми правдами и неправдами, беря на душу грех, вызнать не творилось ли в печатне за дни осады чего странного.
Коней поставили в укромном местечке, в заветренном, у стены каменной церкви Заиконоспасской обители. Сами, стоя чуть ли не по колено в снегу, еще раз все уточнили.
— Знак — два свиста, тревога — долгий и короткий, — напомнил Богдаш. Ответный знак?
— Он же, короткий и долгий, — отвечал Семейка.
— Ну, с Богом! — напутствовал Тимофей и перекрестил Богдаша.
Тот коротко поклонился, как бы в благодарность, развернулся и по свежевыпавшему снегу пошел туда, где было у него условлено встретиться с шустрой женкой.
Данила, державший поводья Голована и Лихого, высунулся поглядеть Желваку вслед, но был пойман Тимофеем за шиворот.
— Не торчи! Спугнешь!
Семейка негромко засмеялся.
— Не спугнет он никого, свет. Та баба Богдашку сразу куда задумала поведет. Не то время, чтобы посреди улицы миловаться.
Он держал в поводу своего коня, Ворона, и Желвакова Полкана, темно-карего, довольно крупного для бахмата, аршина и пятнадцати вершков в холке.
— А любопытно, что там Богдаш разведает! Уж больно много надежды на ту бабу полагает, — неодобрительно бурчал Тимофей. — А и окажется, что такая же, как все, бестолковая.
— Он сказывал, она за печатным мастером замужем, — напомнил Данила. Не может быть, чтобы от мужа ничему путному не научилась.
— Больно хорошо ты про баб думаешь, — осадил его Тимофей. — Вот послушай…
Он рассказал про дуру-бабу, из мастериц царицыной Светлицы, что додумалась принести в Верх корешки приворотные — бабки ее научили мужа приворожить, так она с теми корешками и расстаться не могла, и сама же их там и потеряла. Дело вышло шумное, дальше некуда, первое, что взбрело на ум нашедшей эту дрянь сенной девке, — испортить хотят государыню, и с чадами вместе! Многих мастериц тогда на дыбу поднимали…
Потом Семейка вспомнил что-то еще про бабью дурь — и так они коротали время, дожидаясь условных двух свистов, а их все не было и не было…
Молчал же Богдаш по уважительной причине — женка, с которой условился встретиться за деревянной церковкой Заиконоспасской обители, все не шла и не шла!
Желвак сперва переминался с ноги на ногу, потом стал и вовсе приплясывать. Он для соблазнительного дела обул нарядные желтые сапоги, не предназначенные для ночных зимних дозоров. И шапку нацепил щегольскую, корабликом, с бархатными отворотами, с золоченым запоном посередке, и под шубой был на нем полосатый зипун до колен, не простой, а тафтяный на подкладке, со многими пуговицами. Под зипуном же — чистая вышитая рубаха, и порты хорошие, и пояс шелковый плетеный, и и еще за пазухой печатный пряник с пышнохвостым петухом для подарка красавице. Ничего дороже пряника Богдаш ввек бы женке дарить не стал.
Уже пришло Желваку на ум, что красавица попалась ревнивому супругу, что поймана, прибита, и ждать далее не имеет смысла. Тут заскрипел снег под черевичками и появилась она — взволнованная, даже и на вид перепуганная.
— Ступай, ступай прочь скорее… — зашептала она.
— Муж гонится? — Богдаш приосанился. Уж заехать-то в ухо чурбану, от которого женка, заскучав, по сторонам поглядывает, он был всегда готов.
— Да убирайся же ты, Христа ради!.. — взмолилась красавица.
— А что стряслось-то? — не слыша шума погони и поняв, что это — одни бабьи глупости, коли не лукавство и притворство, Богдаш попытался обнять свою избранницу.
— Вот как схватят — так и поймешь! Всю подноготную из тебя выбьют, пообещала она. — Уходи — потом придешь! Потом… завтра… к обедне…
А больше и сказать ничего не смогла — Богдаш принялся ее целовать.
— Уходи… сгинешь ведь!.. — выдохнула она, отпихивая от себя молодца.
— Да не бойся! Пойдем к тебе… заласкаю… — шептал в самое ухо Богдаш.
И тут словно гром небесный грянул!
— Ага-а-а-а!!! — заорал неведомый голос. — Вот он где! Имай его, подлеца!
Богдаш отскочил от женки, прямо на лету разворачиваясь.
Кроме пряника, было у него под полой шубы и еще одно угощеньице — не для красных девок и блудных женок, а для назойливый мужей. Звалось оно медвежий нож. Клинок был тяжелый и длинный, крестовина — большая, знающие люди сказывали, что таким чингалищем и впрямь можно медведя порешить, а уж очумелого муженька — и подавно!
Но против медвежьего ножа был не одинокий муж-чурбан с каким-нибудь ослопом, а целое воинство. Справа и слева оказались вдруг не кто-либо, а стрельцы с пищалями.
И объявился вдруг пылающий факел, осветивший возбужденные лица.
— Ну, сказывай! — гремел меж тем тот, кого Богдаш все еще почитал за обманутого супруга. — Кто тебя сюда подослал?!
— А ты кто таков? — грозно спросил Богдаш. — Тебе самому тут чего надобно?!
Он пытался разглядеть возмущенного мужика, но тот был в шапке и в тулупе с поднятым воротом, откуда торчала лишь борода, сам — гора горой, а глотка — мало чем послабее Тимофеевой.
— А надобно мне знать, какой злодей тебя нанял и сюда подослал! И что тот злодей-немец велел тебе отсюда вынести! Коли добром повинишься — то и не будет тебе ничего, а коли упираться станешь — повяжем, и правду уже на дыбе из тебя добывать станем! А ты — ступай сюда!
Это относилось к обомлевшей женке. Она не шелохнулась, только поднесла к губам сжатые кулачки да тихо ахнула.