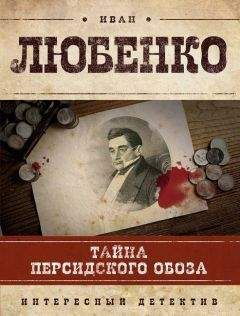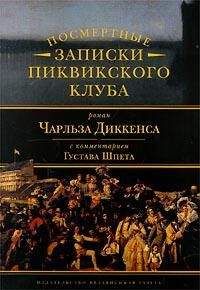Александр Зеленский - Лиходеи с Мертвых болот
Мне оставалось только улыбнуться тому, как легко водят за нос нашего брата эти красотки. Даже тех, кто сами себя считают выдающимися хитрецами.
Как и ожидалось, брата Пауля мы застали наедине с кувшинчиком доброго рейнского вина. Памятуя, что ему предстоит еще сотворить вечернюю молитву, Пауль не слишком усердствовал в возлияниях. И потому вполне осмысленно выслушал наши вопросы, обращенные к нему.
— Где книги из библиотеки? — спросил сотник, что называется, в лоб, поигрывая здоровенным кинжалом перед носом святоши.
Мне показалось, что от этого вопроса госпитальер сразу протрезвел.
— Наша библиотека лучшая из всех. Только в Мариенбурге, пожалуй, наберется томов побольше. Но мы надеемся переплюнуть личную библиотеку самого Великого магистра, когда завладеем всеми рукописями из хранилищ Бельского…
— Вот про книги Бельского я и спрашиваю, — уточнил сотник.
— Это большой секрет, — важно молвил монах и стал теребить янтарные четки на поясе.
Пришлось вступить в разговор мне.
— Господин госпитальер, наверное, знает обо всех книгах, хранившихся у Бельских?
— Естественно. У меня даже имеется список…
— Но о самых драгоценных манускриптах господин госпитальер вряд ли осведомлен…
— Это каких же?! — воскликнул он, колыхнувшись всем жирным телом.
— Ну, скажем, есть ли в вашем списке «Синайский кодекс» четвертого века от Рождества Христова?
— Э?
— А библейские книги, переписанные самими первосвященниками? А «Апостол» в серебряном окладе?..
— Постой-ка, постой! Не так быстро… Похоже, нам есть о чем поговорить… Неужели и эти книги хранятся у Бельских?
— Так вы их не нашли?..
— Кое-что мы обнаружили. Большинство в наших руках! Но вот «Синайский кодекс»…
— И вы, конечно, желали бы иметь и эти…
— Еще бы! Сын мой, подобные книги являются святыми и должны находиться только в лоне церкви. Я живот свой положу на плаху, если мне только предложат такие ценности, свято слово!
— У меня имеется полный список книг, — сказал я.
— Не может быть! — вскричал толстяк.
— И я готов уступить его за хорошую цену.
— Мне надо подумать… — Четки в руках толстого святоши словно ожили в его быстрых пальцах. — Скорее всего мы сговоримся. Подождите меня здесь. Я скоро приду, — с этими словами госпитальер шустро вскочил на ноги, но тут же, потеряв равновесие, брякнулся на пол.
Слишком он был тучен, чтобы делать такие резкие телодвижения. Сидя на полу, брат Пауль надолго задумался, а потом произнес:
— Вы поможете мне сесть в повозку, а я вам скажу, что… все книги уже перевезены в Штейнгаузенский замок. Ну же! Все вместе! Взяли!
Мы помогли подняться толстяку и усадили его обратно за стол.
— Я же просил донести меня до…
— Чуть позже, господин госпитальер. Вы еще не допили свое вино. Да и мы промочим горло. Эй, хозяйка, открой нам бочку старого вина! Только самого старого! — сказал сотник. — А теперь поглядим, кто из нас больше выпьет.
— Ну, в этом вам за мной сроду не угнаться, даже не пытайтесь, — усмехнулся брат Пауль, одним духом осушая здоровенную чащу с вином.
Вскоре он уже ничего не соображал. А когда мы усадили его в возок, то толстяк со слезами на глазах разоткровенничался: «Вы очень хорошие люди! Не буду вам врать. Как перед Богом! Мы не смогли найти этих драгоценных книг в замке Бельских. Нет, не смогли! Но мы их обязательно найдем! С нами Бог!» — сказав это, толстяк перекрестился и тут же повалился на дно возка.
Его битюги, хорошо знавшие дорогу в крепость, сами, без понуканий, поплелись к монастырским воротам».
(Из записок лейб-медика польского королевского двора пана Романа Глинского.)
Глава 12
РУСЬ. ЛОВУШКА «НА ЛЮБОВЬ»
Ладони у Агафона были, как обычно, — сухие и теплые. Он держал за руки Варвару и Гришку, им передавались его умиротворенность и покой, они будто прикоснулись немного к могучей, невидимой силе. Глаза всех троих при этом не отрывались от наполненного водой серебряного блюда, и каждый видел в нем одному ему предназначенные картины.
Пред Гришкой из тумана вставали странные, прекрасные земли, бескрайние леса, города с гигантскими, невероятно красивыми сооружениями. К нему пробивалось откуда-то незнакомое слово — Беловодье. Нечто далекое и вместе с тем близкое, трагичное и светлое было у Гришки связано с этим словом. Но что — он не мог понять.
Колдун сдвинул брови, на его лицо наползла тень. Это не укрылось от Варвары, которая обеспокоенно спросила:
— Что ты там видишь?
Ответ колдуна звучал тихо, голос пробирал до пят, становилось жутковато:
— Ухабы да кочки перед глазами моими, кустарник колючий. Вскоре предстоит вам медвежьи ямы обойти да о колючки не оцарапаться, от стаи волков отбиться.
— Как это? — с замиранием сердца спросил Гришка.
— Чувствую, опасность вас подстерегает, и то будет первое, грозное испытание. Такова уж судьба ваша, что не одно еще испытание предстоит, а вот найдете ли вы покой и счастье, если их преодолеете — это еще вилами на воде писано. Но иного пути Богом не начертано. Только так людьми станете, а не лютыми хищниками и не их добычей. Дрогнете, отступите — брести вам оставшуюся жизнь по заросшим бурьяном окольным дорогам и себя не найти.
— Что за опасности, испытания такие? — спросила Варя, обычно человек беззаботный и легкомысленный.
Сейчас ее охватил страх, и она начинала понимать, что в ее, хоть и тяжелой, но, казалось, определенной раз и навсегда жизни, скоро произойдут какие-то важные перемены.
— Это одному Богу известно. И я ничего для вас сделать не могу, ибо есть ноша, которую человек сам, в одиночку, донести должен, — сказал Агафон.
Как не хотелось Гришке и Варе, чтобы в словах отшельника была правда! Им было так хорошо вместе, и счастья этого ничто не могло поколебать. Может, ошибается колдун? С кем ни бывает… Но оба знали, что это не так. Дед Агафон, когда говорит такие вещи, не ошибается никогда. И сейчас, в этот момент, он приоткрывает не только занавес над грядущими событиями, но и над самой тайной замысла Божьего.
Тьмой и вечностью повеяло на влюбленных, но день был светлый, ласковое солнце пробивалось через изумрудную зелень листьев, пели в ветвях птицы, как обычно в жаркие дни, воздух кишел стрекозами с переливающимися крыльями, и двум людям было хорошо друг с другом.
Они шли, держась за руки, шептали друг другу ласковые слова, и с каждой минутой на душе становилось легче, и тьма отступала, и черные думы вскоре оставили их. Радость от жизни взяла вверх. В этот миг казалось невероятным, что может быть как-то иначе. Им не хотелось думать о словах Агафона, который теперь молился в своей избушке за них и клал поклоны перед образами.
Варя болтала в воде ногами, сидя на берегу затерянного в лесах озерца. Разговор, поначалу пустой, беззаботный, постепенно зашел о прошедших временах, где у каждого была оставлена своя боль.
— Голод небось помнишь, — спросила Варя. — Как Годунов царем стал, так вскоре голод и начался.
— Рассказывали, — кивнул Гришка. — Небо тьмой обратилось, десять недель лили дожди, будто вновь потоп Всемирный начался, и не скосить урожай, не сжать. А в конце лета мороз вдарил. Не взошли всходы, и начался невиданный доселе голод. А чего ждать, коль комета хвостатая в небе висела?
— Мой дед с отцом тогда в Москву подались, — сказала Варя.
— И мой отец тоже. Да там и сгинул, — признался Гришка.
— В наших краях совсем плохо стало, только умереть — и все. Но и в Москве не легче. На рынке четверть ржи в цене до трех рублей поднялась. А купцы бесстыжие да бояре бессовестные хлеб скупали, чтобы потом втридорога продавать, попридержав перед этим хорошенько, дабы цена его поднялась. Царь Борис и закрома открыл, и деньги народу мешками раздавал — все бесполезно. Отец говорил потом, что люди до крайности дошли — стали траву и сено есть, а уж о кобылах и кошках и говорить нечего — не осталось их вовсе. На постоялых дворах людей убивать стали, а мясо их в пирожках на рынках продавать. Отец рассказывал, как самолично с толпой в клочья рвал тех, кто зерно утаил, а еще видал, как продавца пирожков тех, из человечины, на кол сажали.
Домой отец один вернулся. Дед так в Москве и сгинул. Тут я на свет появилась, но мать недолго потом прожила. Хоть и протянули мы голодные времена на оставшихся запасах, пока родня в Первопрестольной была. Но болеть она начала, вот чахотка в могилу и свела. А отец в лихолетье где-то сгинул — то ли за поляков, то ли против них воевал — так и не знаю. Одно знаю, что и на меня, и на братишек моих старших ему начихать было. Вот и повели меня, малую, братья по миру. Так и выросла в скитаниях.
— Как две капли воды, судьбы наши схожи. Страшно. По всем прошлось время то поганое, — сказал Гришка.