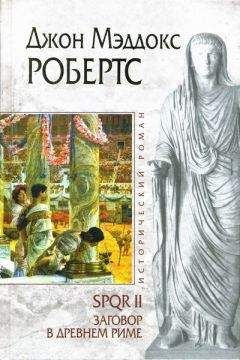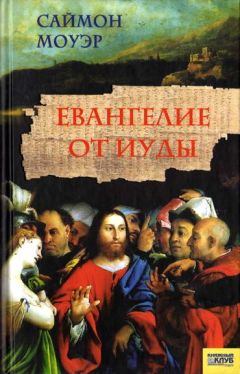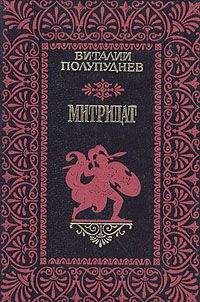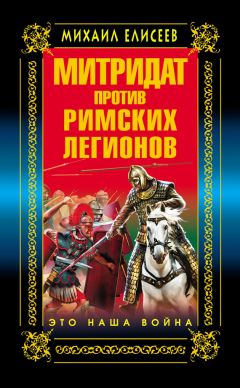Саймон Моуэр - Евангелие от Иуды
С той минуты, проведенной во мраке палеохристианской подземной церкви Сан-Крисогоно, Мэделин Брюэр избегала взгляда Лео Ньюмана.
Голос в телефонной трубке, неприятно-знакомый голос, слегка насмешливый и отчетливо порочный.
– Можно повидаться с тобой? Есть разговор. Тебе же не сложно?
– Здесь, в моей квартире?
– Где угодно. – Сквозь открытое окно влетают крики стрижей и отдаленный рев машин, катящих по Лунготевере. В серых стенах своей квартиры он покрывается потом.
– Как хочешь, – говорит Лео.
– В квартире. В логове льва.
Она пришла в половине одиннадцатого утра. Из окна он видел, как она идет по тротуару на противоположной стороне улицы. Она начала переходить через дорогу, остановилась на островке в потоке автомобилей и мельком взглянула на Палаццо Касадеи прямо перед собой, ожидая перерыва – отлива бушующего транспортного моря, – чтобы преодолеть разделявшее их расстояние. Автобус остановился и извергнул пассажиров. Она нырнула в толпу, маленькая женщина в голубой юбке, изящных туфлях и красной куртке, такая уверенная и решительная. Широкая, слегка мужеподобная походка. Он наблюдал, как она исчезает в его подъезде.
Страх? Отнюдь. Куда менее определенное чувство – смятение. Удушливый прилив паники. Легкое омерзение оттого, что ему снова предстоит вдохнуть ее запах, ощутить ее присутствие, услышать ее нежный голос. И еще – нетерпеливое ожидание, ожидание без повода и объекта, просто нетерпеливое ожидание конца.
Войдя, Мэделин извинилась, хотя было непонятно, за что именно она просит прощения. Она рассеянно оглянулась и швырнула куртку – кроваво-красную, как кровоподтек, как тромб – на спинку кресла, которое они с Джеком ему подарили, и сказала, что ей не хотелось бы отвлекать его. Тем временем Ньюман суетился вокруг нее: придвигал стул, предлагая сесть, извинялся за то, что стул неудобный второпях варил кофе на электроплитке в узкой кухоньке. Глупость, конечно, но ему действительно было стыдно за свою комнату, за заурядную мебель и жалкие пожитки. Раньше он ими гордился; точнее, гордился их малочисленностью.
– Прости меня, – повторила Мэделин, беря чашку кофе. – Наверное, с тобой это постоянно случается.
– Что?
– Ну, люди изливают тебе душу.
– А ты сейчас занята именно этим?
Она, рассмеявшись, отвернулась, покраснела и принялась искать предмет, на котором можно было бы остановить взгляд (что было весьма нелегко, учитывая аскетичную бедность обстановки).
– Тебе нужно поставить здесь цветы. Я тебе принесу. Этой квартире недостает яркости.
– Женской руки?
– Можно и так сказать. Надеюсь, цветы не вызывают у тебя отвращения. – Она встала со стула, не успев толком усесться, отошла к окну и, пригнувшись, выглянула наружу. Дернула занавеску, зачем-то коснулась оконной рамы. – Сейчас между нами – мутное стекло, – пробормотала она. – Тогда мы стояли лицом к лицу…
– Почему цветы должны вызывать у меня отвращение?
– Разве у тебя нет аллергии на подобные вещи в твоем мире самоотречения? – Мэделин чуть скривилась. Ее лицо отражалось в окне; он видел и само лицо, и нечеткое, молочное отражение. – Извини. Я сама напросилась в гости, а теперь еще и грублю. Начнем с того, что я вообще не уверена, стоило ли мне приходить сюда. Я хочу поговорить о Джеке, о нашем с ним браке, но я сомневаюсь, что ты подходящий собеседник. Мне нужен приходский священник. У приходского священника, скорее всего, не будет схожего личного опыта, но он уже выслушивал подобные проблемы тысячу раз. В этом ведь и состоит задумка, правильно? Тогда как ты… – Лео позволил ей выговориться. Слова лились сплошным потоком, балансируя между дружеской беседой и исповедью. – Ты когда-нибудь думал о женитьбе? Это хамство с моей стороны – спрашивать об этом… Может, ты не интересуешься… ну, женщинами. Я перепутала время. Может, ты не интересовалсяими. Мы ведь об этом уже говорили, помнишь? Ее, кажется, звали Элиза? В любом случае, я сую нос не в свое дело. Но я интересоваласьмужчинами, что, по-моему, вполне очевидно. Интересовалась одниммужчиной, как и подобает приличной девушке-католичке. Конечно, у меня было несколько любовников до Джека. Но сейчас я утратила к своему мужу всякий интерес.
В процессе беседы Мэделин как будто преодолевала бездну, и когда она повернулась, чтобы взглянуть на Лео, ее улыбка была направлена вглубьнего. Раньше с ним не случалось ничего подобного. Она была первой.
– Как ты думаешь, что мне делать? – спросила Мэделин, и Ньюман понял, что он практически не слушал ее. А если и слушал, то не понимал, как будто она говорила на иностранном языке, и, слыша каждое слово по отдельности, он все-таки упускал суть. Ведь целое всегда превосходит сумму составляющих.
– Делать?…
– Да, делать.Ты меня не слушал, правда? – Она вдруг ухмыльнулась, довольная, что смогла разоблачить его. – М-да, замечательный ты исповедник. Или это слишком скучная тема для разговора?
– Разумеется, я тебя слушал. Твой брак исчерпал себя. Но разве этого не следовало ожидать? Все с этим сталкиваются и борются, как умеют.
– А как насчет твоего брака? Со Святой Матерью Церковью. Он себя не исчерпал?
– Мы о ком говорим – о тебе или обо мне?
– Прости. Я не должна вмешиваться. Обо мне… Мы говорили обо мне. Проблема в том, что мне не с кем поговорить, кроме тебя. Ты это понимаешь, Лео?
– Кроме меня?…
– Понимаешь ли, твоя роль в моей жизни сильно изменилась…
Тревога. Тревога – это утонченный страх, тонкая патина страха на поверхности каждого поступка.
– Изменилась? Боюсь, я не понимаю…
– Ты был священником, а стал… другом. Прости, наверное, это не следует разграничивать. Я не исповедуюсь тебе, Лео. Я просто женщина, которая ведет доверительную беседу с другом.
И он подумал: женщина, 'issâ,поскольку она произошла от мужчины, 'is.К женщинам в Библии отношение неоднозначное, начиная, конечно, с Евы. Змеи, извиваясь, проскальзывают в женскую логику, протягивая плод запретного знания, знания, которое таится там, под складками материи, между крепкими, немужскими бедрами. Сложный вопрос – женщины. Достаточно вспомнить ее тезку – Марию Магдалину, женщину, из которой изгнали семерых бесов.
– Но отец Лео теперь стал просто Лео, – говорила Mэделин, – с которым я могу поговорить не как с духовником, а как с обычным и, надеюсь, способным к состраданию человеком. И еще я надеюсь, что не навязываюсь ему. – Лео пролепетал что-то в ответ, но она будто не заметила – лишь безучастно ему улыбнулась и призналась, что ее брак терпит настоящий кризис. – Ах, Лео, серьезный кризис. Вера, любовь и все прочее… Я снова излагаю невнятно? Перед тобой стоит абсолютно беспомощный человек. – Она засмеялась. На первый взгляд, это был ее обычный, открытый смех, с резким, пряным привкусом самоиронии. Простой приятель никогда бы не распознал в глубине этого смеха никакого отчаяния или огорчения. Но в нем было и отчаяние, и огорчение. И Лео откуда-то это было известно, и столь интимная подробность беспокоила его. – Я утратила веру, Лео. Вера исчезла, пропала, фьють! – и нет, растаяла облачком пыли. Ты можешь вернуть ее своими тонкими иезуитскими аргументами? Я больше не люблю Бога, потому что перестала верить в его существование; я больше не люблю Джека, который, мне кажется, давно уже разлюбил меня, потому что в некотором смысле я перестала верить и в его существование. Наверно, я говорю, как глупенькая девочка-подросток?
– Отчасти.
– Но есть одно отличие. Я могу действовать. У подростков подобные настроения обычно проходят без следа. Но я могу действовать.
– И что же ты можешь сделать?
Мэделин покачала головой.
– Еще не знаю. Но возможность действия, она рядом. Я ее чувствую. Понимаешь, тебе ведь дается только один шанс не так ли? Я знаю, ты не настолько глуп, чтобы зачитывать мне набившие оскомину истины: ну, там, небесный чертог, береги себя к Судному дню… У человека моего возраста остается только один шанс. И я обязана им воспользоваться, так ведь?
– Обязана? Кому?
– Самой себе. Никого ведь больше нет.
– Я думал, есть еще кое-кто. Например, дети.
Она на некоторое время глубоко задумалась.
– Ты помнишь Сан-Крисогоно?
– А что именно? – Тревога росла, принимая все более отчетливые формы, превращаясь в обыкновенный страх Паника вставала комом в горле.
– Наш поход туда?
– Конечно. – Ощущение ее тела, сжатого в объятиях, ее хрупкого тела, ее плеч, накрытых его руками, ее головы, склоненной прямо возле его лица, ее волос, запаха ее волос… Сосредоточенность человека, окунувшегося в кромешный мрак, когда она стала для него единственным живым существом в мире – вернее, не она сама, а ее прикосновение, ее тактильное присутствие, которым ограничился весь мир. Паника…