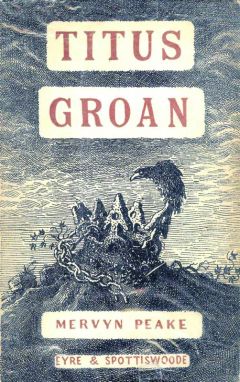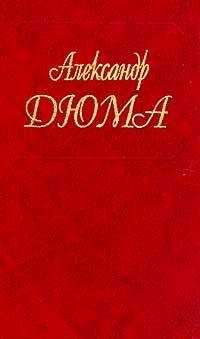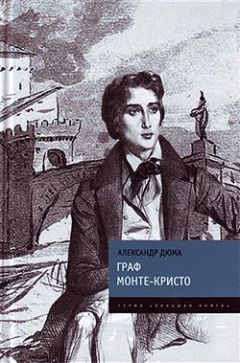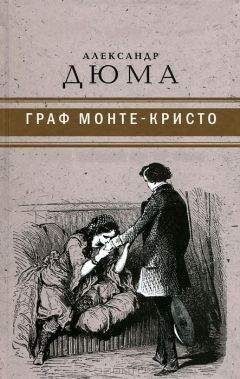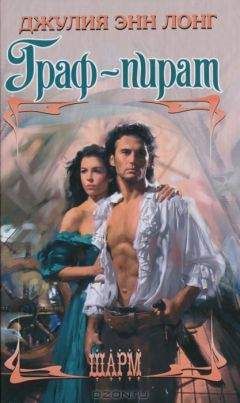Александр Дюма - Катрин Блюм
— О господин мэр! — вскричала она. — Несчастье!
— Бог ты мой, что за несчастье, госпожа Ватрен? — спросил мэр с некоторым беспокойством.
Что же до папаши Ватрена, то он слишком хорошо знал характер своей жены и поэтому не выразил такого беспокойства, как его гость.
— Что же случилось? — снова спросил мэр.
— Что там стряслось, жена? — повторил вопрос папаша Ватрен.
— Стряслось то, — ответила Марианна, — что мадемуазель Эфрозина жалуется на нездоровье!
— А, ну это ничего! — сказал мэр, очевидно знавший свою дочь так же хорошо, как Гийом знал свою жену.
— У, притворщица! — прошептал лесничий, казалось составивший верное представление и о достоинствах мадемуазель Эфрозины.
— Но дело в том, — продолжала мамаша Ватрен, — что она непременно хочет вернуться в город.
— Ну-ну! — сказал мэр. — Шолле здесь? Если здесь, он сможет ее отвезти.
— Нет, его еще нет, и я думаю, что из-за этого мадемуазель стало еще хуже.
— А где Эфрозина?
— Она сидит в коляске и просит, чтобы вы пришли.
— Ну ладно! Погодите-ка… До свидания, папаша Ватрен, у нас с вами долгий разговор, поэтому я ее отвезу и через час — эти кони просто звери, — через час я вернусь сюда, и если вы будете себя хорошо вести…
— Если буду хорошо себя вести?
— Ну что ж, тогда ударим по рукам! Больше пока ничего не скажу… До свидания, папаша Гийом! До свидания, мамаша Ватрен, смотрите хорошенько за вашим фрикасе, и у вас будут булавки, чтобы закалывать кухонный фартук.
И поскольку эти слова мэр говорил, направляясь к двери, мамаша Ватрен следовала за ним, делая реверансы и приговаривая:
— До свидания, господин мэр! До свидания! Передайте наши извинения мадемуазель Эфрозине!
Гийом не двинулся с места и сидел, покачивая головой. Он, конечно, не заблуждался относительно причины любезности господина мэра.
Речь действительно шла о том, чтобы, как он и говорил, заставить лесничего закрыть глаза на кое-что.
Вскоре вернулась Марианна, горько сожалея об отъезде мадемуазель Эфрозины, и сказала ему:
— Ах, отец, я надеюсь, ты побранишь Бернара!
— За что же мне его бранить? — резко ответил Гийом.
— Да как же! За то, что он только с Катрин глаз не сводил, а с мадемуазель Руазен едва поздоровался.
— Да ведь мадемуазель Руазен он видел почти каждый день за последние полтора года, а свою кузину — два раза за это время.
— Все равно… Ах, Боже мой, Боже мой! — прошептала Марианна.
Папаша Гийом не только не проявил никакого сочувствия к этому отчаянию, но, пожалуй, даже выказал при виде его некоторое нетерпение.
Он посмотрел на Марианну.
— Скажи-ка мне, жена, — обратился он к ней.
— Ну, что?
— Ты слышала, что сказал господин мэр?
— Насчет чего?
— Насчет твоего фрикасе, за которым он просил тебя приглядывать.
— Да.
— Ну так вот, жена, он дал тебе хороший совет!
— Но дело в том, что я хотела бы тебе сказать…
— И пирог надо бы уже в печь посадить.
— Ах вот что, понимаю, ты меня прогоняешь.
— Не прогоняю, а просто советую тебе пойти на кухню, чтобы убедиться, прав ли я.
— Хорошо, я ухожу на кухню, ухожу! — произнесла мамаша Ватрен тоном оскорбленного достоинства.
— Смотри-ка, — сказал лесничий, провожая жену взглядом, — оказывается, тебе совсем нетрудно быть любезной, а ты это делаешь так редко!
— Ах, вот как! Я оказываю любезность тем, что ухожу? Очень вежливо говорить такое!
Папаша Гийом подошел к окну, вынул изо рта трубку и принялся что-то насвистывать.
— Ну да, очень мило делать такое! — не унималась мамаша Ватрен. — Ишь, высвистывает сигнал «вижу»!
Дойдя до двери кухни, она тяжело вздохнула и вышла.
— Да, — шептал Гийом, оставшись в одиночестве, — я высвистываю сигнал «вижу»… Высвистываю, потому что вижу этих милых бедных детей, и мне доставляет радость их видеть! Поглядите-ка, — продолжал он, хотя рядом не было никого, кто бы мог разделить его радость, — как они хороши, как улыбаются, точь-в-точь два ангела небесных. Идут сюда — не буду их беспокоить!
И папаша Гийом направился к своей комнате, продолжая насвистывать. По мере того как влюбленные приближались, он свистел все тише. Когда он открывал свою дверь, они как раз входили в нижнюю комнату. И с верхней площадки, где он задержался, чтобы еще немного полюбоваться молодыми людьми, он прошептал:
— Да благословит вас Бог, дети!.. Они не слышат меня, ну и хорошо. Ведь они слушают сейчас другой голос, который звучит нежнее моего!
Гийом был прав: этот голос, который он не слышал, но угадывал, был небесный голос молодости и любви, и вот что он говорил устами молодых людей.
— Ты всегда будешь любить меня? — спрашивала Катрин.
— Всегда! — отвечал Бернар.
— Знаешь, вот странно, — сказала Катрин, — мне бы надо радоваться этому обещанию, а мне почему-то грустно.
— Бедная моя, милая Катрин! — шептал Бернар самым нежным голосом. — Если ты грустишь, когда я говорю тебе о своей любви, тогда я не знаю, что же мне сказать, чтобы тебя развеселить!
— Бернар, — продолжала девушка, отвечая скорее собственным мыслям, чем своему возлюбленному, — твои родители женаты вот уже двадцать шесть лет, и, если не считать мелких пустяковых размолвок, они живут так же счастливо, как и в первый день их совместной жизни… Каждый раз, глядя на них, я думаю: а будем ли мы счастливы так же долго?
— А почему же нет? — спросил Бернар.
— Если бы у меня была мать, — продолжала Катрин, — она задала бы тебе этот вопрос, беспокоясь о счастье дочери. Но у меня нет ни отца, ни матери, я сирота, и все мое счастье, как и вся моя любовь, в твоих руках! Послушай, Бернар, если ты думаешь, что когда-нибудь ты будешь любить меня меньше, чем теперь, давай расстанемся сейчас. Я знаю, что умру от этого, но, если уж суждено, чтобы ты когда-нибудь меня разлюбил, предпочитаю умереть сейчас, пока ты меня любишь, чем ждать того дня!
— Посмотри на меня, Катрин, — отвечал Бернар, — и ты прочтешь ответ в моих глазах.
— Но испытал ли ты себя, Бернар? Ты уверен, что любишь меня иной любовью, а не любовью брата?
— Я не испытывал себя, — сказал молодой человек, — но ты меня испытала!
— Я? Как это?
— Уехав на полтора года! Ты думаешь, что полтора года разлуки недостаточное испытание? Не считая двух моих поездок в Париж, этих нескольких дней счастья, с тех пор как ты уехала, я просто не жил. Нельзя же назвать жизнью существование, когда у тебя отняли душу, когда ничто тебе не нравится, ничего не хочется, когда ты все время в дурном настроении. Боже мой, да все, кто меня знает, скажут тебе, что, с тех пор как ты уехала, мне ничего не мило — ни этот прекрасный лес, где я родился, ни шепот моих дубов, ни мои прекрасные буки с серебристой корой… Раньше, когда я уходил из дома на рассвете, в пении птиц, которые, просыпаясь, возвещали Божью зарю, мне слышался твой голос! Вечерами, когда я возвращался и, простившись с товарищами, сворачивал на тропинку и углублялся в лес, какое-то прелестное светлое видение звало меня и, скользя между деревьями, указывало мне дорогу. А когда я подходил к дому, это видение обретало плоть и ждало меня у порога. С тех пор как ты уехала, Катрин, не было ни одного утра, чтобы я не спросил: «Куда это делись птицы? Я их совсем не слышу!», и не прошло ни одного вечера, чтобы я не приплелся домой самым последним, уставшим и грустным, вместо того чтобы прибежать раньше всех, веселым и радостным, как это было прежде!
— Милый Бернар!.. — прошептала Катрин, подставляя молодому человеку для поцелуя свое прелестное лицо.
— Но с тех пор как ты здесь, Катрин, — продолжал Бернар с юношеским восторгом, свойственным первым движениям сердца и первым мечтам, — все изменилось! Птицы снова запели в ветвях, а мое прекрасное видение, я в этом уверен, снова ждет меня под деревьями, чтобы поманить с тропинки и повести к дому… И я знаю, что на пороге дома я встречу не призрак любви, а настоящее счастье!
— О мой Бернар, как я тебя люблю! — воскликнула Катрин.
— И потом… потом… — продолжал Бернар, нахмурившись и проведя ладонью по лбу, — да нет, я не хочу говорить тебе об этом!
— Нет, говори, скажи мне все! Я хочу все знать!
— И потом, сегодня утром, Катрин, когда этот мерзкий Матьё показал мне письмо Парижанина… и я увидел, что этот человек обращается к тебе, моя Катрин, с которой я разговариваю как с Пресвятой Девой, к тебе, мой чистый лесной ландыш, словно к какой-нибудь из своих городских девиц… Ну так вот, я тогда почувствовал такую боль и в то же время такую ярость, что сказал себе: «Пусть я умру, но, прежде чем умереть, я убью его!»
— Так вот почему ты отправился по дороге на Гондревиль с заряженным ружьем, вместо того чтобы спокойно ждать здесь свою Катрин, — с нежностью сказала девушка. — Вот почему, пройдя шесть льё за два с половиной часа, ты едва не умер от жары и усталости! Но ты был наказан — ты увидел свою Катрин на целый час позже… Правда, вместе с провинившимся была наказана и невинная!.. Ревнивец!