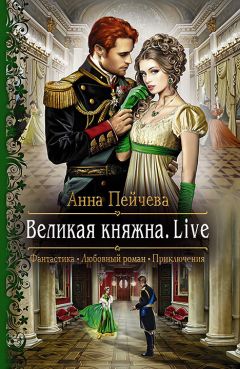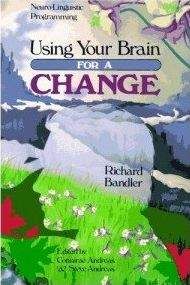Борис Акунин - Весь цикл «Смерть на брудершафт» в одном томе.
— Понимаю ненависть контрразведчика к шпионам, но согласитесь, что без них в современной войне не проживешь!
— Без прямой кишки тоже не проживешь, — буркнул грубиян Романов. — Но не целоваться же с ней.
Метафора была слишком сильная. Полковник, человек с живым воображением, даже поморщился, но лучезарная улыбка Татьяны Олеговны ничуть не померкла. У настоящей леди воображение вышколено, а слух избирателен.
— Я ненавижу шпионов еще больше, чем изменников, — зло продолжал Романов и сам не понимал, чего он так разошелся. — Предателем человек может стать по слабости или от безвыходности. Шпионы выбирают свою профессию добровольно. Это мои враги. Я их вытаскиваю из нор и давлю, как крыс.
— Крысы — очень неприятные создания, — согласилась с ним фрейлина Одинцова.
Петри
Еврей слишком много говорит. А умный человек предпочитает слушать.
Немцы — серьезная, обстоятельная нация. Если берутся за дело, то продумывают все детали. Особенно в таком великом деле. Куда более великом, чем совершил ты, Эйген. Убить императора это не то, что застрелить в упор старика генерал-губернатора, у которого и охраны не было. Так что не очень-то заносись на том свете, дружище Эйген.
Друг-соперник Эйген Шауман вошел в бессмертие и стал обитателем национального пантеона героев после того, как убил в здании финского Сената царского сатрапа генерала Бобрикова, а потом застрелился сам. Петри плакал по товарищу много дней. Во-первых, потому что Эйген погиб. Во-вторых, потому что сравняться с ним после такого подвига уже никогда не удастся.
Так Петри думал долгие двенадцать лет, и жизнь была ему не мила. Но потом с ним встретились немецкие люди. Они предложили такое, что Петри будто родился заново. Эйген больше не снился ему по ночам, не глядел молча и снисходительно. И неважно, если все будут думать, что царя сгубил несчастный случай. Это между Петри и Эйгеном, на остальных плевать. Если есть загробный мир, Эйген будет знать. А если загробного мира нет, то будет знать сам Петри. Достаточно, чтобы спокойно жить дальше. Или спокойно умереть.
— Вот участок трассы Могилев — Бердичев, южнее Жлобина, на пути от Ставки в штаб Юго-Западного фронта. Предположительно объект отправится по этому маршруту послезавтра. — Немец вел указкой по меловой линии. Она делала тугую петлю. Вокруг этого места были нарисованы смешные маленькие деревца. Указка остановилась. — В Петрищевском лесу, вот здесь, железная дорога описывает загогулину в обход заболоченной низины. Обзор вот из этой точки не превышает ста пятидесяти метров в обе стороны. Идеальное место для акции. Именно тут мы и пустим литерный поезд под откос. По чистой случайности, в лесу, около места крушения, окажется несколько крестьян. Этот славный паренек, — немец кивнул на маленького китайца, — способен пролезть в любую щель. Руки у него волшебные, хватит одной секунды. Покажи-ка, Вьюн, как ты это делаешь.
Сонный азиат вяло поднял кисти рук. Пальцы были тонкие, удивительно длинные. Они вдруг сжались и совершили резкое, не вполне понятное движение.
— Летальная компрессия шейных позвонков — обычная травма при железнодорожных авариях, — прокомментировал немец. — Понятно?
Петри стал обдумывать сказанное, а еврей уже влез с новым вопросом:
— Это если царский поезд пойдет первым. Но что, если он окажется вторым?
Действительно. Ведь тогда с рельсов сойдет поезд свиты, а царь останется невредим. Не может быть, чтобы немцы не предусмотрели такой возможности.
Конечно, предусмотрели. Они же немцы, а не русские. У них «на авось» не рассчитывают.
— Вот именно на этот случай мне и понадобится ваш интернационал, — сказал командир. — Интервал между поездами составляет тридцать минут. За это время нужно, во-первых, снять оцепление в пределах прямой видимости. Это всего четверо жандармов. И вас четверо.
А-а, вот оно что. Петри медленно покивал. Толково придумано. Четверо жандармов — и нас как раз четверо. Часового снять нетрудно. Во время прошлой революции Петри это делал. Один раз, когда нападали на склад с оружием. И еще один раз, когда освобождали товарищей из тюрьмы. Главное — подкрасться сзади без шума и аккуратно нанести удар по голове. Пустяки.
— А что во-вторых? — спросил еврей. Он всё время забегает вперед паровоза — вот как это называется.
— У Балагура будет полчаса, чтобы вынуть одни болты и вставить другие.
Наедине с дамой
А потом Алексей неожиданно оказался с фрейлиной ее величества тет-а-тет. Произошло это так.
Из тамбура выглянул высокий, плечистый молодец в фуражке с золотым кантом, профессионально приметливый взгляд скользнул по лицу незнакомого поручика, остановился на полковнике.
— Ваше высокоблагородие, первый.
— «Первый» — это срочный вызов к государю, — пояснил Назимов. — Вынужден отлучиться.
Он быстро вышел, на ходу оправляя мундир.
«Очень мило, — раздраженно подумал Романов. — И что мне теперь? О погоде с этой фройляйн разговаривать?»
Он уже хотел, извинившись, пойти в свое купе — разложить вещи и поработать с реактивами, но не сделал этого.
Женщина смотрела на него с мягкой, словно бы выжидательной улыбкой. Вести себя по-хамски было стыдно.
О чем разговаривают с фрейлинами ее величества? Наверное, про музыку будет в самый раз.
— Превосходно играете Шопена. Легко, но мощно. Не по-дамски.
Чёрт. Последнего, видимо, говорить не следовало.
— Любите музыку? По лицу не скажешь.
Алексей непроизвольно покосился в зеркало, висевшее над пианино. Лицо как лицо. Немного хмурое.
— Это почему же?
— Трудно представить, что вы когда-нибудь смеетесь. И уж совсем невозможно вообразить вас танцующим. Или поющим.
Эти слова его задели — Романов и сам не понял, чем.
— Смеюсь я редко, это правда. Танцевал последний раз… не помню когда. А что до пения — спою, когда война закончится.
Одинцова печально молвила:
— Это в войне самое ужасное. Кто погиб — погиб, Царствие Небесное, но что она делает остальными? Добрые становятся жестокими, горячие холодными, живые лица — мертвыми. Вы знаете, Алексей Парисович, что у вас мертвое лицо? Совсем.
Он вспомнил, как читал где-то: настоящий аристократ говорит обидное, только если хочет обидеть. Что ж, фрейлине это удалось.
— Так ведь меня, сударыня, в детстве-отрочестве-юности не к войне готовили. Ни дома у маменьки с папенькой, ни в гимназии, ни в университете убивать людей не обучали. Что вы можете видеть из вашего розового купе? Что можете знать о настоящей войне? Как Андрей Болконский-то говорил, помните? «Война — самое гадкое дело в жизни». Убивать или быть убитым — вот что такое война. Я убивал, меня убивали. Хуже, чем убивали, — предавали. А еще я вот этой рукой своего товарища… Так было нужно…
Что на него нашло? Зачем он разоткровенничался с этой царскосельской куклой?
Алексей скривился.
— Не надо с жалостью глядеть! Меня жалеть нечего!
Проклятье, опять не то!
— Простите, должен идти. Служба.
Татьяна Олеговна грустно смотрела в сердитую спину удаляющегося по коридору поручика.
Тарас
А все ж интересно, что тут у кого на уме. По-настоящему, без обману. За что люди готовы жизнь положить.
Тарас неторопливо поглядывал на соратников, вычислял, прикидывал.
Ну, немец — он и есть немец. Начальство прикажет — сдохнет. Германия!
Толстяк — за гро́ши, эта порода ясная.
Китаёза? Ихняя душа — потемки и китайская грамота. А может, у них души вовсе нет, один пар.
Долговязый, который всё помалкивает, похож на малоумка, вон у него и взгляд оловянный.
Лях — наверняка из гонору, перед какой-нибудь паненкой покрасоваться.
Еврей — тоже понятно. Этим к любому делу прилипнуть надо, и чтоб беспременно оказаться в первачах. Если капиталист — то самобогатейший, если музыкант — наизнаменитый, если ученый — чтоб всю науку с ног на голову, а коли революционер — так всемирный. Как это — царя убить, да без них? Еврейская гордыня не попустит. Потом окажется, что Миколашку один Маккавей порешил, а прочие у него на посылках бегали. Вон он как перед всеми ум свой выказует.
Чухна — этот, наверно, про смерть и не думает. Фантазии не хватает. Честная нация, работящая, но скучная.
У Ворона, москаля, глаз шальной. Все они емельки пугачевы — стеньки разины, только б за топоры, да рубаху на груди, да красного петуха. Свой дом запалят, и нас заодно пожгут. Потому и надо от Москвы высоким плетнем огородиться.
И всем им не дано знать, что такое настоящая любовь к родине. Один Тарас здесь вправду пришел положить живот за отчизну. Разодранную на части, поруганную, униженную до того, что даже имя у ней жалкое. Зовут ее либо МалоРоссией, либо Украиной. Над ее языком в городах потешаются, от ее обычаев носы воротят. Ничего, дайте срок. Будет наша страна не окраиной, а центром, будет Киев мировой столицей, а кацапский язык зазвучит порченой мовой.