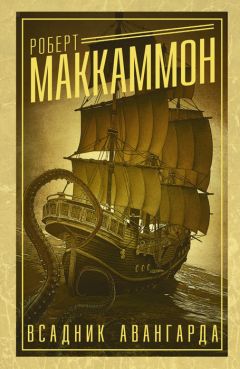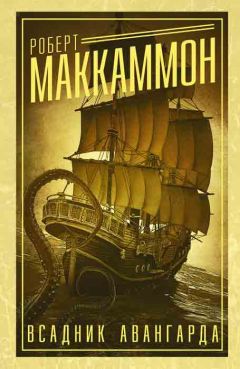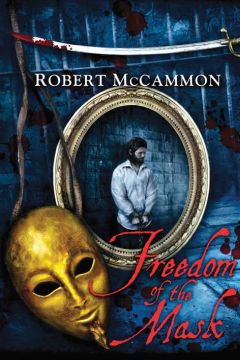Роберт Маккаммон - Голос ночной птицы
Он показал рукой на свои обнаженные гениталии.
— А, понимаю. Хорошо, я сделаю тебе подарок.
Навпавпэ снял с себя набедренную повязку и протянул Мэтью.
Мэтью надел ее, осторожно балансируя, поскольку мог действовать только одной рукой.
— Я скоро вернусь, — обещал он Рэйчел и вышел, пятясь, из хижины на яркое солнце.
Хижина и куча дров находились не дальше пятидесяти футов от резиденции вождя. Стайка стрекочущих улыбчивых детей прицепилась по дороге к тени Мэтью, и двое из них бегали вокруг, будто посмеиваясь над его медленной неловкой походкой. Однако увидев, куда он идет, тут же отпрянули и убежали.
Навпавпэ был прав, когда сказал, что Мэтью сам поймет.
Кровь измазала наружные стены странными узорами, по которым христианин сделал бы вывод о сатанинской природе индейцев. На запекшейся крови пировали мухи, они жужжали у входа, закрытого черной медвежьей шкурой.
Мэтью минуту постоял снаружи, собираясь с духом. Вид был весьма не заманчивый. Потом он дрожащей рукой отвел шкуру в сторону. В лицо пахнуло едким дымом. Внутренность хижины едва освещало что-то красное — наверное, догорающие угли угасшего огня.
— Шоукомб? — позвал Мэтью. Ответа не было. — Шоукомб, вы меня слышите?
Ничего.
В дыму лишь приблизительно угадывались контуры.
— Шоукомб? — еще раз позвал Мэтью, но молчание сказало ему, что придется переступить этот ужасный порог.
Набрав в легкие едкого воздуху, он вошел. Медвежья шкура за ним опустилась на место. На секунду Мэтью остался стоять где стоял, ожидая, чтобы глаза привыкли к темноте. Страшный удушающий жар бросил его в пот. Справа можно было разглядеть глиняный горшок, полный тлеющих углей — это от них шел жар и дым.
Что-то шевельнулось — медленно, тяжело — слева.
— Шоукомб? — спросил Мэтью.
Глаза его жгло. Он двинулся влево, куда удалялись клубы дыма.
Почти сразу, напрягая зрение, он смог разглядеть какой-то предмет. Он был похож на ободранный окровавленный бок говяжьей туши, который повесили вялить, и действительно, он висел на шнурах, закрепленных в потолочных балках.
Мэтью подошел. Сердце у него грохотало.
Что бы тут ни висело, сейчас это был кусок освежеванного мяса без рук и без ног. Мэтью остановился. Щупальца дыма плыли мимо лица. Ближе он подойти не мог, потому что уже знал.
Может быть, он издал какой-то звук. Застонал, ахнул, еще что-нибудь. Но — медленно, как пытка во внутреннем круге Ада — шевельнулась скальпированная и покрытая коркой крови голова этого бруска. Она качнулась набок, потом подбородок поднялся.
Глаза были на месте, вылезали из орбит на этом безобразно распухшем, покрытом синяками и черной коркой крови лице. Век не было. Нос отрезали, губы и уши — тоже. Тысячи мелких порезов нанесены на избитый торс, гениталии выжжены, запекшаяся рана покрылась блестящей черной коркой. Точно так же страшным огнем прижгли обрубки рук и ног. Обрубленную тушу оплетали веревки с узлами.
Если есть описание последнего ужаса, который обрушился на Мэтью, то известно оно лишь самому богохульнейшему из демонов и святейшему из ангелов.
Движения этого приподнятого подбородка хватило, чтобы тело качнулось на веревках. Они заскрипели в балках писком тех крыс, что одолевали таверну Шоукомба.
Туда-сюда, туда-сюда.
Раскрылся безгубый рот. Язык Шоукомбу оставили, чтобы он мог молить о милосердии с каждым порезом ножа, с каждым ударом топора, с каждым поцелуем огня.
Он заговорил сухим дребезжащим шепотом, едва различимым при крайнем напряжении слуха.
— Папочка? — Слово вышло изуродованным, как его рот. — Это не я котеночка убил, это Джейми… — Грудь его задрожала, донесся душераздирающий всхлип. Вытаращенные глаза смотрели в пустоту. Это от Шоукомба исходил тихий, раздавленный писк испуганного ребенка. — Не надо, пожалуйста, папочка, не бей меня больше…
Изуродованный громила зарыдал.
Мэтью повернулся — глаза его жгло дымом — и выбежал, пока разум его не развалился на части, как тарелка Лукреции Воган.
Он оказался снаружи, ослепленный и дезориентированный сиянием солнца. Пошатнулся, заметил еще несколько голых детишек, носящихся вокруг него со стрекотом, и лица у них были радостные, хотя они танцевали совсем рядом с хижиной пыток. Мэтью чуть не упал, выскакивая наружу, и его резкие неловкие движения, чтобы сохранить равновесие, вызвали у ребятишек вопли восторга, будто он присоединился к их танцу. По лицу бежал холодный пот, внутренности бунтовали, и Мэтью пришлось наклониться и сблевать на землю, отчего детишки засмеялись и запрыгали вокруг с новыми силами.
Он зашагал дальше, пошатываясь. К веселой компании малышей присоединился одноухий рыжий пес. На Мэтью спустился туман, и он не ведал, в ту ли сторону идет среди хижин. Его движение привлекло жителей постарше, прекративших собирать семена и плести корзины, чтобы присоединиться к веселой цепочке, будто он какой-то вельможа или властитель, чья слава затмевает само солнце. Смех и вопли нарастали, как и число последователей, и от этого лишь сильнее становился ужас Мэтью. Гавкали в спину собаки, шныряли под ногами дети. Ребра болели смертельно, но разве это боль? В остолбенении он понял, что никогда не знал боли, даже грана ее не ведал, если сравнить с тем, что выносит сейчас Шоукомб. За коричневыми улыбающимися лицами заблестели солнечные блики, и вдруг перед ним оказалась вода. Мэтью упал на колени, сунул лицо в воду, не обращая внимания на дикую боль, пронзившую до костей.
Он пил, как животное, и дрожал, как животное. Горло перехватило, он бешено закашлялся, вода хлынула из ноздрей. Потом Мэтью сел на корточки, с мокрого лица капала вода, а толпа позади разворачивалась в веселье.
Он сидел на берегу озерца. Оно было вдвое меньше фаунт-роялского источника, но вода в нем была такой же синей. Мэтью увидел невдалеке двух женщин, наполняющих мехи из шкур. Золотом переливалось солнце на поверхности, напоминая день, когда Мэтью увидел такое же солнце, сияющее над источником Бидвелла.
Он сложил ладонь чашечкой, набрал воды и приложил к лицу, ощущая, как она стекает по горлу, по груди. Горячка разума остывала, зрение прояснилось.
Индейская деревня, понял он, была зеркальным образом Фаунт-Рояла. Как и создание Бидвелла, деревня разместилась здесь — кто знает, когда это было, — поближе к источнику пресной воды.
Мэтью услышал, что шум толпы стих. Чья-то тень легла на него и произнесла:
— На унхуг паг ке не!
Двое мужчин взяли Мэтью, осторожно, чтобы не потревожить раны, и помогли ему встать. Потом Мэтью повернулся к говорившему, но он уже знал, кто отдал приказ.
Навпавпэ был на четыре дюйма ниже Мэтью, но высота судейского парика придавала ему солидность. Золотые полоски камзола сияли под ярким солнцем. Добавить сюда еще эти тщательные татуировки, и Навпавпэ становился зрелищем — глаз не оторвать, при этом весьма внушительной личностью. В нескольких шагах у него за спиной стояла Рэйчел, и глаза ее тоже были цвета испанского золота.
— Прости мой народ, — сказал Навпавпэ речью королей. Он пожал плечами и улыбнулся: — Мы не часто принимаем гостей.
Мэтью все еще не пришел в себя. Он медленно моргнул, поднес руку к лицу:
— А то… что вы сделали… с Шоукомбом… с белой рыбой… входит в прием?
Навпавпэ был просто шокирован:
— О нет! Разумеется, нет! Ты не так понял, Победитель Демона! Ты и твоя женщина — почетные гости здесь за то, что ты сделал для моего народа! А белая рыба — грязный преступник!
— Вы так с ним поступили за воровство и убийство? Может быть, закончить эту работу и проявить немного милосердия?
Навпавпэ помолчал, обдумывая.
— Милосердия? — спросил он, морща лоб. — Что такое это самое «милосердие»?
Очевидно, это понятие французский географ, выдававший себя за короля, не смог или не захотел объяснить.
— Милосердие, — начал Мэтью, — проявляется, когда… — он задумался, подыскивая слова, — когда наступает время положить конец чьему-то страданию.
Навпавпэ еще сильнее наморщил лоб:
— А что такое страдание?
— Это то, что ты чувствовал, когда погиб твой отец, — пояснил Мэтью.
— Ах, это! Ты хочешь сказать, что надо вспороть брюхо белой рыбе, а внутренности вытащить и скормить собакам?
— Ну… я думаю, нож в сердце будет быстрее.
— Смысл не в том, чтобы было быстрее, Победитель Демона. Смысл в каре, в том, чтобы показать всем, что бывает за такие преступления. И к тому же детям и старикам так нравится его пение по ночам. — Навпавпэ уставился на озерцо, все еще в размышлении. — Это самое милосердие: так делают во Франз-Европэ?
— Да.
— Тогда — что ж. Значит, это то, чему мы должны стремиться подражать. И все-таки… нам его будет не хватать. — Он повернулся к стоявшему рядом человеку: — Се ока па неха! Ну се каидо на кай ичиси!