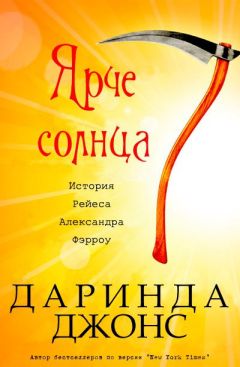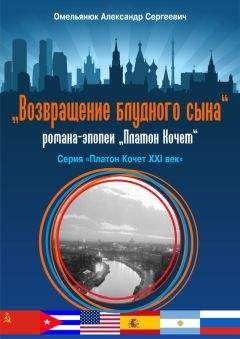Новый век начался с понедельника - Омельянюк Александр Сергеевич
А последний, четвёртый случай, более чем первые два, оказался для больного ревматоидным артритом, совсем уж было трагичным.
Платон некоторое время, в качестве базисной терапии своей болезни, принимал «Делагил».
И вот, в начале марта его, быстро идущего с работы, укусил пёс. Тот до этого выбежал впереди Платона из ворот и поперёк переулка погнал к помойке ворону. Увлечённый охотой пёс, после её неудачного завершения, повернул было обратно свой злобный рык, но увидел быстро мелькавшие брюки Платона. Они то и стали теперь новой мишенью ещё не остывшего от пыла погони пса. Как настоящий, бывалый, опытный охотник тот без звука догнал свою новую жертву и средне-сильно тяпнул сзади за икроножную мышцу правой, ближней к нему в тот момент ноги, тут же убегая восвояси.
Платон естественно сразу поспешил в травмопункт по месту жительства.
Там ему вкололи первый укол против бешенства, после чего Платон еле доехал до дома, где у него уже резко поднялась температура и начались озноб с ломотой.
Хорошо хоть Платон в тот момент позвонил домой Надежде и всё ей объяснил. Ведь на завтрашнем горизонте маячил пропуск следующего рабочего дня. Но та просто ужаснулась. Ведь «Делагил» ни в коей мере не совместим с уколами против бешенства, вплоть до летального исхода.
К счастью Надежда, как заядлая любительница животных, знала эту собаку, так как неоднократно лично кормила её, и гарантировала отсутствие у неё бешенства.
По твёрдому настоянию начальницы с утра Платон снова посетил травмопункт, подробно объяснил им свою ситуацию, и, получив согласие врача, расписался об отказе от дальнейших инъекций против бешенства.
Если бы не Надежда, Платона могло бы уже с нами и не быть!!!
Ведь взаимодействие, вернее борьба этих лекарств в организме человека, наверняка вызвало бы запредельное повышение температуры его тела и, как следствие этого, смерть!
В этих четырёх случаях Надежда трижды спасала Платона: от нескольких суток КПЗ, от аллергической болезни, и даже саму его жизнь!
Вот тебе и габитус с харизмой! Главное, оказывается, знания!
Да и вовремя оказаться в нужном месте, в среде знающих и чутких людей, коей, безусловно, навсегда в жизни Платона зарекомендовала себя Надежда Сергеевна Павлова!
А Надежде, как человеку открытому, доступному, искреннему, щедрому, да и просто доброму, часто везло. И она к этому привыкла. Считала само собой разумеющимся.
Надежда эти везения выдавала за свои успехи, свои достижения. Но эти везения иногда играли с нею и злую шутку. Когда фортуна вдруг отворачивалась от неё, она недоумённо взирала на свои поражения, коих, к счастью, было очень мало, и искала причины их в своих сотрудниках-мужчинах – трёх козлах-отпущения.
Надежда Сергеевна Павлова по своему роду деятельности, как и её двое других коллег-мужчин, Ляпунов и Гудин, были представителями научной интеллигенции, кою в народе, после интеллигенции от культуры, тоже частенько называли гнилой.
И эта гнилая интеллигенция продолжала загнивать в своих НИИ, вместо псевдо научной работы, в основном, занимаясь непрекращающимися склоками: кому, сколько и за что заплатили; почему тем больше, а не им; кто с кем переспал; кто, что, кому и сколько дал; кто о ком что сказал. И так далее, и тому подобное.
Например, мстительный Алексей, даже вслух не скрывавший этого, всё время пытался своих коллег в чём-то уличить – в плохой работе, некомпетентности, подлости, подвохе и в прочем.
Гудин же всё время искал возможность лишний раз оскорбить и унизить Платона, тем самым хоть на миг возвыситься над ним, не быть последним.
Платон как-то сказал ему, что раньше работал и лектором.
– «А-а! Вот ты как партийную карьеру сделал! Балаболил!» – не смог тот сдержать зависти без подковырки.
– «Да нет! На лекционной работе на одних междометиях громким голосом далеко не уедешь! Тебя сразу разоблачат!» – достойно уел того Платон, намекая на его громогласную пустоту и косноязычность.
И Платон тут же вспомнил, как его однажды могли разоблачить в другом, когда в тот раз, неожиданно вскочивший элемент его габитуса чуть было не испортил впечатления от его харизмы.
Платон участвовал в каком-то политическом собрании в большом актовом зале их предприятия. Как водится, на таких мероприятиях, основными участниками были мужчины. Выступающие сменяли один другого. И вот, следующим докладчиком объявили Платона. Услышав свою фамилию, он густо покраснел. И вовсе не из-за смущения, а из-за стеснённого ощущения, в котором оказалось его неожиданно и беспричинно восставшее естество, заметно оттопырившее подбрюшинную часть его брюк.
Если бы Платону пришлось идти с дальних рядов зала, мимо смотрящих не на него, а на сцену коллег, то ещё была бы какая-то надежда, что неожиданно проснувшийся и восставший корень его жизни всё же образумится и займёт своё естественное место и положение.
Но Платон сидел в середине зала. Да и его популярность среди коллег вынудила многих из них, особенно женщин, обернуться, встречая влюблёнными и восторженно-ожидающими взглядами нового докладчика, известного на фирме и за её пределами лектора. Нужно было срочно маскироваться. Но под рукой, как назло, ничего не было.
Платон невольно встал, и, вместо того, чтобы пробираться к проходу из глубины ряда лицом к сидящим, как требует того, забытый многими, этикет, он, дабы не ввести в шок своим состоянием сидящих рядом, проводя мимо их лиц свою неимоверно торчащую подбрюшину, был вынужден пойти на выход лицом к трибуне, опустив взгляд, нарочно делая широкие шаги, пытаясь тем самым сбросить непокорного наездника. Но тщетно. О, ужас!
Сейчас он выйдет в проход и всем всё станет не только видно, но и ясно, но, в то же время, непонятно, почему у их Платона даже член стоит на партийную трибуну?
К счастью, его, особенно пытливый в этот момент, взгляд заметил на самом крайнем месте мужчину, державшего на коленях папку. Решение пришло мгновенно. Платон, подняв немного выше ногу, якобы переступая через ступни сидящего, и вроде бы нечаянно ударил коленом по руке с папкой, которая упала в проход. Фокус удался.
Платон, с неимоверной радостью избавления от позора, специально глубоко присел, чтобы поднять папку, но тем самым пытаясь дать возможность непокорному занять из почти горизонтального положения теперь вертикальное, хоть как-то прижавшись к животу. Кое-что удалось. Но Он занял какое-то промежуточное положение, торча теперь куда-то в бок.
Теперь же, поднявшись, Платон непринуждённо прикрыл трофейной папочкой распоясавшийся пах, и на глазах теряя краску на щеках, направился к трибуне.
Чем дальше он шёл, тем больше выпрямлялся, всё больше успокаивался и становился уверенным в дальнейшем ходе событий. Взойдя на трибуну, и освободившись от теперь ненужной папки, он начал речь.
И с первых же его громогласно прозвучавших слов нутро стало постепенно успокаиваться.
Вскоре увлечённый Платон почти забыл о только что происшедшем, и только жаркие перешёптывания и восторженные улыбочки некоторых дам, сидевших в ближайших к трибуне рядах у прохода, напоминали ему о чуть было не случившимся нелепом конфузе.
Возвращая позже папку её улыбающемуся пожилому хозяину, Платон услышал от него неожиданную реплику:
– «Можете не извиняться! Я всё понял! Видя, как Вы странно присели и идёте, далеко выбрасывая колени в стороны, я обо всём догадался!».
– «Да! Ваша папка спасла меня от позора!».
– «Позора, ли?!» – восторженно и понимающе спросил хозяин спасительной папочки.
Тогда Платон записал эту историю и добавил в «Юмор», как и всё другое, убрав в долгий ящик.
Но и желание записывать юмор со временем позабылось. Да и сам юмор как-то старался долго обходить стороной Платона. Но когда он всё же, вдруг случайно появлялся, то Платон забывал записывать, или не мог это сделать в силу разных причин.
А то немногое, что ему удавалось всё-таки случайно запомнить, со временем утерялось в лабиринтах его сознания, попало в долгий и, видимо, глубокий ящик его сознания, затихнув до поры, до времени, до лучших времён. И времена, наконец, настали! Платон стал свободным в выборе!