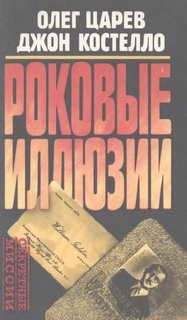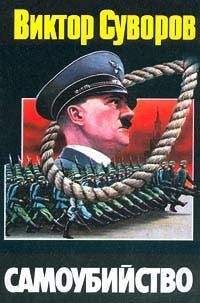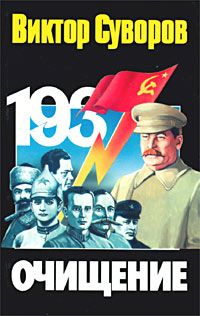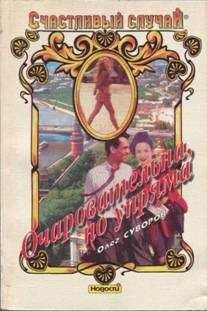Роковые обстоятельства - Суворов Олег Валентинович
После столь решительного замечания пришла пора Денису и Петру дружно обратить изумленные физиономии в сторону Воробьева.
— Если кто из нас уникум, так это ты, Гришка! — заявил Ливнев. — Конец света ему подавай! Впрочем, все это белиберда, и меня уже утомили мудреные разговоры. Послушайте лучше чудный анекдот, которым на закуску нас угостил сегодняшний лектор, — он глотнул пива и, не дожидаясь согласия приятелей, принялся рассказывать: — Лет несколько назад он по поручению прокурора судебной палаты производил ревизию отдельных следственных участков Казанской губернии и обнаружил там дела с такими названиями: «о прелюбодеянии крестьянина Бочкарева с трехмесячной телицею», «о крестьянине Шандыбине, обвиняемом в нанесении волостному старшине кулаками буйства на лице» и «о драке со взломом мещанина Н. и крестьянина В.».
— Что ты врешь? — улыбаясь, спросил Воробьев. — Драка это не кража, как же ей быть со взломом?
— Вот то же самое спросил у следователя и наш лектор. Оказывается, крестьянин вознамерился побить мещанина и уже приступил было к исполнению своего намерения, когда тот вырвался и заперся в, интеллигентно выражаясь, «месте уединенных размышлений». Однако крестьянин так раздухарился, что выломал дверь и навешал мещанину прямо в нужнике — вот и получилась драка со взломом!
Приятели громко захохотали, а довольный произведенным впечатлением Ливнев с улыбкой продолжил:
— Но самое смешное, братцы, даже не это, а то определение драки, которое дал местный краснобай-адвокат, выступая в суде по этому делу. «Драка, господа, есть такое состояние, субъект которого, выходя из границ дозволенного, совершает вторжение в область охраняемых государством объективных прав личности, стремясь нарушить целостность ее физических покровов повторным нарушением таковых прав».
После этого Воробьев и Винокуров буквально скорчились от смеха, а Гришка даже погрозил Ливневу кулаком, будучи не в силах произнести ни слова.
А тот, самодовольно улыбаясь, оглядывал прокуренное помещение пивной, на стенах которого были развешаны «народные картинки», содержащие иллюстрации ко всемирной истории с весьма красноречивыми характеристиками разных европейских наций. Так, о французском королевстве говорилось, что «люди в нем воинские, храбрые, нанимаются биться по многим королевствам, но зело неверны и в обетах своих некрепки, а пьют много». Про обитателей английского королевства сообщалось, что «они люди купеческие и богатые, пьют же много». Впрочем, и тех и других превзошли жители королевства польского, которые «величавы, но всяким слабостям покорны, вольность имеют великую, пьют же зело много».
По залу с самым рассеянным видом, бормоча себе что-то под нос, бродил еще один студент, одетый столь бедно, что иной, даже и привычный человек, посовестился бы днем выходить в таких лохмотьях на улицу. При этом юноша был замечательно хорош собой — темно-рус, ростом выше среднего, тонок и строен, однако благодаря странному бормотанию производил впечатление городского сумасшедшего.
— Э, братцы, да ведь это же Родька! — наконец признал его Ливнев.
— Какой еще Родька? — брезгливо поморщился «любомудр».
— Да из наших, с юридического. Родион Романович Раскольников…
— А чего он такой грязный?
— Черт его знает… Без денег, наверное, сидит, даже в баню сходить не на что. Вот он и «роскошествует лишениями», выставляя свое рубище напоказ.
— Ты его только за наш стол не приглашай, а то еще вшей натрясет!
— Хоть ты и Воробьев, да не Соловьев! — укоризненно глянул на него Ливнев и, пока философ наливался гневным румянцем обиды, привстал из-за стола и замахал рукой: — Эй, Родька… Родион Романыч, пожалте к нам!
Раскольников дернулся, вперил испуганные глаза в окликавшего его Ливнева, после чего вдруг как-то по-старушечьи затряс головой и, круто повернувшись, выбежал на улицу.
— Ну и черт с ним! — несколько озадаченно пробормотал будущий юрист. — Пьян, наверное, как сапожник или искал кого-то… Эх, Гришка, — снова опускаясь на свое место, обратился он к нахохлившемуся Воробьеву, — все-таки жаль, что мне не довелось тебя с ним познакомить!
— Эка невидаль! — передернул плечами тот. — Охота была мараться.
— Нет, брат, здесь ты не прав. Родька типус весьма любопытный и, так же как и ты, страдает разными завиральными идеями вроде «необыкновенных личностей» с их особыми правами в истории.
— Опять врешь! Сам ты хоть и Петр, да не апостол! И ничем я таким не страдаю!
— Это ты кому другому рассказывай, а я-то знаю, как ты по ночам себя мнишь то Гегелем, то Наполеоном… Эх, жаль Родьку, — неожиданно вздохнул Ливнев, — чует мое сердце — плохо кончит, бродяга!
— Это еще почему? — снисходительно полюбопытствовал Воробьев.
— Человек, мнящий себя гением, но ничего не совершающий для того, чтобы таковым его признали окружающие, непременно кончит плохо! — убежденно повторил Петр. — Или преступление какое совершит, или опустится, сопьется, на путанке женится…
— Да почему ты в этом так убежден-то?
— А куда ж ему еще деваться, гению-то непризнанному? Не в письмоводители же идти на тридцать-то рублей в месяц! Нет, скорее он преступление совершит! — после недолгой задумчивости заявил Ливнев. — Вот только какое? Громкое, со взрывом, чтобы все о нем разом узнали, или тихое, тайком, ради корысти…
— Если с политическими свяжется, то наверняка первое, — снисходительно заявил Воробьев, допивая свое пиво, — хотя гении, как подлинные, так и мнимые, предпочитают держаться в одиночку. В одном ты прав — судя по его виду, кончит он действительно плохо. Так обычно и бывает с теми, у кого наблюдается путаница в основных философских понятиях. Впрочем, если бы все кончали одинаково хорошо, то до чего же скучна была бы история человечества…
— Опять заладил со своей историей! — отмахнулся от него Петр. — А по моему мнению, если человек искренне убежден, что «у дверей нельзя подслушивать, а старушонок можно лущить чем попало, в свое удовольствие», то лучше бы ему уехать куда подальше, в ту же Америку!
— А ты думаешь там все можно?
— Не знаю, да и не слишком интересуюсь… — рассеянно отвечал Ливнев, толкая в бок задумавшегося медика, который уже несколько минут не принимал участие в общей беседе. — Эй, Дениска, ты чего приуныл?
— Сейчас, — словно очнувшись, не к месту отозвался тот, поднимаясь из-за стола, — подождите братцы, я сейчас… — И нетвердыми шагами направился в сторону нужника.
— Все переживает из-за своей Надежды, — проводив его сочувствующим взглядом, заявил Ливнев.
— Это та, что на паперти застрелилась? — наморщил лоб Григорий.
— Она самая.
— А что полиция?
— Да что полиция! Если хочешь знать, мне и побольше полиции об этом деле известно, да только Дениске говорить не хочу — мало ли чего…
— Так мне скажи, свинтус ты этакий! — возмутился Воробьев.
— А не проговоришься?
— Я буду нем, как могила Тамерлана! И столь же величественен и таинственен!
— Ну, слушай… — И Ливнев, заговорщически поманив к себе перегнувшегося через стол философа, принялся что-то нашептывать ему на ухо.
— Чегой-то вы тут? — неожиданно появившись, поинтересовался Денис. — Опять, небось, какие-то гадости об отсутствующих…
— Какие гадости, — не растерялся Ливнев, — мы тут про барышень обсуждали… А не махнуть ли нам теперь в одно веселое местечко? Я, кстати, знаю один такой премилый уголок на Шпалерной улице.
В ответ на столь соблазнительное предложение философ энергично кивнул головой, а медик неуверенно пожал плечами. Однако после окончательного расчета с половым эта достойная идея потерпела полное фиаско, поскольку у разгулявшихся студентов не осталось денег даже на извозчика.
Глава 8
«МАДАМ ОТРАВИТЕЛЬНИЦА»
После лекции о теории самоубийств, которую он прослушал в ночном поезде, Макар Александрович задумал применить полученные знания на практике. Вернувшись к расследованию дел Юлия и Надежды Симоновых, он для начала решил разобраться с возможными причинами самоубийств этих молодых людей.