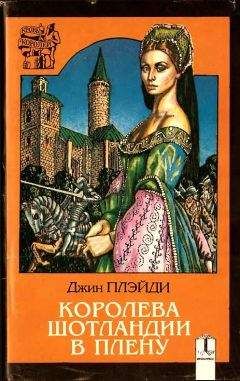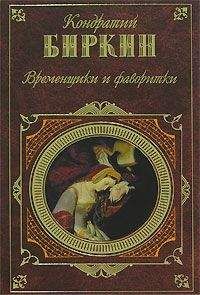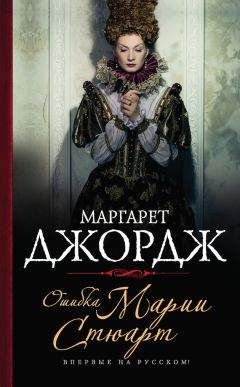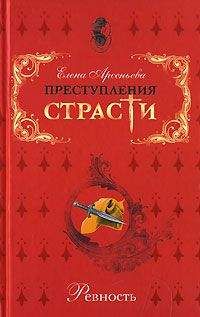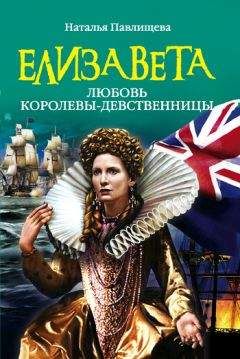Майкл Кокс - Смысл ночи
— Что мы прошепчем? — спросила мисс Картерет, приближая лицо к холодному камню.
— Нужно говорить обычным голосом, не шептать.
— Тогда бегите. Посмотрим, услышите ли вы.
Я бегом бросился в другой конец галереи, прижал ухо к стене и махнул рукой, давая знать о своей готовности. Сперва я ничего не услышал и знаком велел мисс Картерет повторить; потом я постепенно начал различать отдельные слова, жутковатым образом исходящие из недр самой стены: …слепа… лишает глаз… не вижу… ясно.[278]
— Ну как, услышали? — возбужденно спросила она, когда я вернулся к ней.
— А вы хотели, чтобы я услышал?
— Ну конечно. Пойдемте. Я хочу подняться выше.
И вот мы продолжили путь наверх: миновали Часовую камеру и стали подниматься все выше и выше, вслух считая ступеньки, что становились все круче и круче. Мы пыхтели, отдувались и хохотали над самими собой, внаклонку пробираясь под низкими сводами и прижимаясь к стене на лестничных площадках, чтобы пропустить других посетителей, — и наконец вышли на залитую туманным солнечным светом Золотую галерею прямо под стеклянным фонарем. Черное платье мисс Картерет испачкалось в пыли и паутине, щеки у нее разрумянились от усилий, потребовавшихся для преодоления пятисот с лишним ступеней. Едва мы вышли на галерею, налетел резкий порыв ветра, и она ухватилась за мой рукав, когда мы приблизились к низкой железной ограде.
Мы стояли в восхищенном молчании. Казалось, будто мы находимся на палубе огромного корабля, плывущего по безбрежному океану, сотканному из пыли и тумана. Далеко внизу пролегали улицы, запруженные толпами людишек-муравьишек и медленными потоками экипажей. Глаз без труда различал знакомые шпили и башни, дворцы и парки, далекие фабричные трубы, изрыгающие клубы черного дыма; солнце зажигало окна, наводило позолоту на флероны и набрасывало мерцающий золотистый покров на серую реку; но за Лондонским мостом, над столичным портом, полным пришвартованных судов, словно спускалась темная завеса: ни единой мачты не было видно. Из-за легкой дымки, стелившейся в воздухе, все вокруг казалось расплывчатым и зыбким, как во сне. Отсюда, с высоты, человек не столько видел огромный, тяжко и размеренно дышащий город внизу, сколько ощущал его пульсирующее присутствие. Мне оно было хорошо знакомо, ощущение живой мощи Великого Левиафана. Но для мисс Картерет это грозное величие стало настоящим откровением, и она замерла в безмолвном восторге с широко раскрытыми глазами, часто дыша и сжимая мою руку так сильно, что даже сквозь перчатки ее ногти впивались мне в кожу.
Она стояла неподвижно несколько минут, крепко держась за меня и завороженно глядя на широко раскинувшийся внизу Лондон, окутанный мглистой пеленой. Впечатление полной ее зависимости от меня глубоко волновало душу, хотя я знал, что впечатление это ложное. Но я вспоминаю то мимолетное мгновение как одно из счастливейших в жизни — мгновение, когда я стоял наедине с любимой женщиной высоко над грязным, лживым миром, погрязшим в грехе и раздорах, на маленькой площадке между небом и землей, и под нами лежал неугомонный дымный город, а над нами простиралось безбрежное небо.
— Интересно, каково это? — наконец проговорила она странным тихим голосом.
— О чем вы?
— Каково это — броситься отсюда и лететь с такой высоты к земле? Что ты чувствуешь, что видишь и слышишь во время падения?
— Мысль о подобном поступке может прийти в голову только очень несчастному человеку, — сказал я, осторожно оттаскивая мисс Картерет от ограды. — Вы ведь не настолько несчастны, правда?
— О нет, — ответила она, внезапно оживляясь. — Я думала не о себе. Я вовсе не чувствую себя несчастной.
Всю весну и в июне я наведывался к мисс Картерет (теперь я получил позволение называть ее по имени) почти каждый день. Иногда мы сидели и разговаривали час-другой или по шесть-семь раз кряду обходили Белгрейв-сквер, всецело поглощенные беседой, а порой предпринимали небольшие вылазки — с особенным удовольствием я вспоминаю, как мы ходили смотреть восковые фигуры в музей покойной мадам Тюссо[279] на Бейкер-стрит (по настоянию Эмили мы заплатили дополнительные шесть пенсов, чтобы увидеть жуткие экспонаты в Комнате ужасов). Еще мы посещали Ботанические сады в Кью, а однажды совершили увеселительную пароходную прогулку от Челси до Блэкуолла, во время которой, разумеется, проплыли мимо Темпл-Гарденс, где мы с мистером Тредголдом столь часто прохаживались, и мимо причалов Темпл-Степс, где стоял мой собственный ялик. Видя Эмили в такой близости от хорошо знакомых мне мест, я испытывал своего рода виноватое удовольствие и мысленно улыбался от радости, исполненный надежды, что однажды, очень скоро, она пройдет со мной по этим улицам и переулкам, посидит со мной в Темплской церкви и поднимется по лестнице в мои мансардные комнаты, уже принадлежа мне и только мне одному.
Казалось, Эмили находила неподдельное удовольствие в моем обществе: она неизменно приветствовала меня радостной улыбкой, когда я входил в гостиную дома на Уилкот-Кресент, позволяла мне держать себя под локоть на прогулках и целовать свою руку при встречах и расставаниях.
Она стала для меня приятнейшим из собеседников и самым участливым другом, но теперь я начал замечать в ней признаки, красноречиво свидетельствовавшие о чем-то большем, нежели простая приязнь, — особые жесты и взгляды, особые нотки в голосе… Порой она чуть дольше задерживала мою руку в своей руке и сжимала чуть крепче, чем прежде; и смотрела на меня таким сияющим взглядом; и как бы ненароком прижималась ко мне плечом, когда мы стояли на тротуаре, собираясь перейти улицу. Все это говорило о чем-то большем, гораздо большем, чем дружба, и меня переполняло счастье от сознания, что любовь пришла наконец и к ней, как в свое время пришла ко мне.
Потом, в третью неделю июня, лорд и леди Тансор вернулись из Вест-Индии — без Даунта, который отправился в Нью-Йорк по своим литературным делам. Соответственно, мисс Картерет начала готовиться к переезду из тетушкиного дома в Эвенвуд. Утром накануне ее отбытия мы пошли прогуляться в Гайд-парк. День выдался пасмурный, и уже через час, когда мы находились в одном из глухих уголков парка, внезапно хлынул дождь. В поисках укрытия мы бегом бросились к могучему дубу.
Несколько минут мы стояли, прижимаясь друг другу и хохоча как дети, под раскидистой кроной, в которой стрекотали дождевые струи. Потом с запада донесся глухой раскат грома, заставивший Эмили тревожно оглянуться вокруг.
— Здесь небезопасно, — испуганно промолвила она.
Я сказал, что никакой опасности нет и что гроза слишком далеко, чтобы беспокоиться.
— Но мне все равно страшно.
— Дорогая, для страха нет причин.
Несколько мгновений она молчала, а затем тихо проговорила, опустив глаза:
— Возможно, меня пугает не гроза, а смятение в моей душе.
В следующий миг я порывисто привлек Эмили к себе и почувствовал ароматное теплое дыхание, когда прижался губами к ее губам, сначала нежно, потом настойчиво. Ее тело, которое я некогда считал чуждым всякого желания, сейчас с готовностью, со страстью отозвалось на мое прикосновение и прижалось ко мне с такой силой, что я едва не потерял равновесие. Но она ни на миг не ослабила объятий. Я ощутил себя тонущим человеком, подхваченным бурным потоком, могучим и необратимым, и в считаные секунды вся жизнь пронеслась перед моими глазами, прежде чем я погрузился в блаженное забытье.
Задыхаясь, Эмили прильнула ко мне всем телом, в сбитой на затылок шляпке, с растрепанными волосами, с мокрым от дождя лицом.
— Я полюбил тебя с первого взгляда, — прошептал я.
— И я тебя.
Положив голову мне на плечо, она нежно водила пальцами по моей шее сзади, и мы стояли в молчании, не размыкая объятий, покуда дождь не пошел на убыль.
— Ты будешь любить меня всегда? — чуть слышно проговорила она.
— Нужно ли спрашивать?
40. Nec scire fas est omnia[280]
С того дня я воспрянул духом и почувствовал себя бодрее, счастливее и беспечнее, чем когда-либо за все годы, минувшие со студенческой поры в Гейдельберге. Любая цель была мне по плечу теперь, когда я добился любви моей милой девочки! Мы договорились, что я приеду в Эвенвуд, как только она устроится на новом месте, и все остальное казалось отчаянно скучным и неинтересным по сравнению с этой перспективой. Но потом я получил письмо от мистера Тредголда, пристыдившее меня и заставившее вернуться мыслями ко всем заброшенным делам.
Дорогой Эдвард! Я чрезвычайно обеспокоился, когда Вы не приехали в Кентербери, как было условлено. Вот уже много недель от Вас ни слуху ни духу, а сейчас мистер Орр написал мне, что за последний месяц Вы ни разу не появлялись на Патерностер-роу, и я испугался, не приключилось с Вами какой беды. Мне стало гораздо лучше, как Вы видите по моему почерку и как могли бы удостовериться своими глазами. Но я все еще не в состоянии покинуть Кентербери, а потому прошу Вас написать мне по возможности скорее, дабы успокоить меня на Ваш счет.