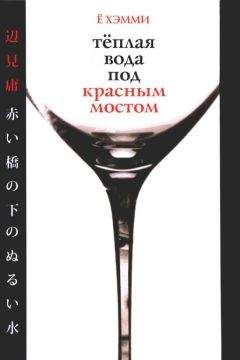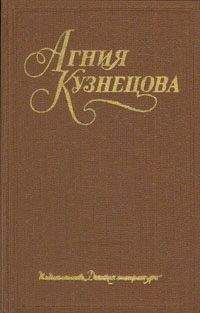Хелена Секула - Барракуда
Наверное, я носила это ремесло в крови, как наследственную болезнь или благотворную бактерию. А в самых ранних своих попытках я старательно и неуклюже копировала мать.
– У нас всякая баба домоткань делала. Это уж так повелось, как рекрутчина, не приведи Бог. Но великая ковровница раз на сто лет родится. По округе быстро про нее слух расходился, и уж она никогда лиха не знала. С чужих сторон люди к ней шерсть везли, и ковров от такой ткахи по многу лет ждали, бывало.
Так мечтала моя мать о сытой жизни для меня, нарезая кукурузный хлеб, к которому не могла привыкнуть. Мечтала о единственной великой карьере, которую она понимала и знала.
Обреченная на улицу нью-йоркской нищеты, двойная эмигрантка – из страны и из своей среды, – она была для всех тем более чужой деревенщиной. Она спасалась от отверженности, как спасается раненый зверь, инстинктом находя нужную травку: цеплялась за то, что было ей ближе всего, за то, что знала и любила.
Она убегала в ткачество от презрения, равнодушия, расизма окружения, пряталась от ностальгии. Не зная ученого слова, она говорила, что земля родная у нее болит.
На рассвете она предпринимала далекие и страшные путешествия в богатые районы, где до прибытия мусорщиков перетряхивала черные пластиковые мешки с отходами. Оттуда она выкапывала красочные тряпки, стирала их, резала на полоски и свивала в клубки, чтобы потом нанизать на ткацкий станок и соткать из них половички, накидки на диваны или дорожки.
Но деньги к ней не шли.
Да и где взять ткацкий станок на Манхэттене? Она не знала. За помощью пошла к соседу, который в океане чужого и враждебного мира был родным существом. Он разговаривал на понятном языке, кудри цвета поседевшей ночи прикрывал черной ермолкой из вытертого бархата, чтил субботы, а в пятничные вечера его одинокая тень раскачивалась на стене в такт пламени свечей, воткнутых в шестираменный подсвечник.
Печальный пророк наших каменных трущоб, окутанный дымом кипящих клеев и грунтовок, бродящий в облаках золотистых стружек, которые текли из-под рубанка.
Родной, потому что похожий на портных, сапожников, скорняков, которые сидели на рыночной площади родимого села, в войну стертого с лица земли.
Столяр.
Он остругал и просверлил деревянные рейки, сделал самый простенький ткацкий станок: раму. Мать знала такую раму с детства. В ее родных местах она была единственной игрушкой девочек, кроме собственноручно сшитой из тряпок куклы. Непреднамеренная дидактика: учить будущих ткачих.
– Да куда тебе платить, нечем же, – буркнул столяр, когда мать развязывала узелок с медяками. – Вот соткешь мне половик, у нас тоже такие делали.
Он был откуда-то из-под Гродно, приехал в Нью-Йорк после первой мировой войны, Тут провел всю жизнь. Похоронил жену. Вырастил единственного сына.
Моя мать нанизывала основу из толстых джутовых нитей (она выпрашивала в порту остатки старых канатов) и ночами плела тряпочные половики. Словно заклятье заставляло ее сидеть ночами над убогим станочком.
Так она защищалась. Иллюзия привычной и понятной жизни, дыхание леса, дикой речки в рамке камыша и дягиля, в объятиях черных ив, а не бетонных коллекторов. Там было другое время, другое пространство, другое солнце.
Выточенным из дерева толстым крючком (в ее краях его звали кулемой) она вязала половички, накидки, тряпичные паласы, обезумевшие от красок. Расцветали и опадали шерстяные цветы, пенились травы, вставали дремучие леса и паслись животные. Как в раю: дикие и домашние вместе.
Нет, великой ткачихой она не была. Мне, единственному ребенку, уцелевшему от резни, она пророчила славу, когда учила первым стежкам.
– Может, ты, дочка, получила этот дар, потому как ровница тебя прилюбила, к тебе так и льнет…
Сейчас, в Музее современного искусства, я стояла как бы и от ее имени: в брошюре упомянули и мать, мою первую учительницу. Поздно пришла эта слава, мать уже разучилась радоваться, печалиться, переживать.
Моя мать…
Деревенщина-изгой, с лицом потрескавшейся камеи, с разбитой душой, искалеченная войной и двенадцатью годами в Нью-Йорке. Задавленная миром, который никогда не понимала и где потеряла инстинкт. Наивная и хитрая, великодушная и мелочная, щедрая и алчная.
Растоптал ее Город. Не защитил станочек.
В нью-йоркских трущобах простой мир моей матери окончательно рассыпался, а его место занял шаблон массовой культуры. Ведь ниже Сороковой Восточной улицы самым большим позором была нищета.
Там восхищались теми, кто сумел оттуда выбраться. Таким завидовали. Душу травила мания успеха. Материального. Выраженного в суммах и вещах. Здесь никто ничему не ужасался, ничему не удивлялся. Люди жили в различных отношениях, жили недостойно, бессмысленно, с искаженной шкалой ценностей.
* * *Я взяла предложенные деньги. Подписала, как требовалось, отказ от всех моральных и финансовых претензий, отныне и навеки. Чек, как возмещение за своего мертвого ребенка, я получила из рук того самого адвоката, который много лет назад кричал на мою мать через Стива, чей жаргон мы не очень понимали. Теперь адвокат очень вежливо обращался ко мне по-английски, а я прекрасно его понимала.
Мы купили стандартный домик в пригороде, где жили мелкие чиновники. Белый домик с черными ставнями и наличниками, с газончиком и живой изгородью.
Мать начала подражать соседкам.
Она остригла косу, стала завивать волосы, носила яркие цветастые платья, красила ногти кроваво-красным лаком, курила, попивала. Она завела знакомства, не сторонилась мужчин, с удовольствием кланялась знакомым дамам, и они ей отвечали, приглашали иногда на чашку чая или рюмочку ликера.
Мать уже не ткала половиков, а вместо этой страсти осталась пустота. Ее не заполнили ни усердный уход за собой, ни мимолетные связи с мужчинами, такими же потерянными, замороченными миром хищных вещей. Жизнь была погоней за вещами, жизнь для вещей. Эти люди не знали, что делать со свободным временем, и убивали его пьянством и дополнительными заработками.
Мать навещала наш старый район, гордо неся на макушке вавилоны лакированных локонов. Она хвасталась изысканными нарядами, новым статусом человека, которому повезло.
Возвращалась она разочарованной.
Восхищение и зависть долго не продержались. Она уже была не оттуда, и никто по ней не скучал. Эта среда, словно зыбучий песок, заполнила пустоту после нее так плотно, слово мать никогда не существовала, словно и не прожила среди них десять лет.
И снова она везде чужая…
Она опять начинала биографию с нуля. От входа в маленький белый домик с черными наличниками. Но и здесь ее на самом деле не приняли. Она была слишком другая, слишком простая, часто под хмельком. Новообращенная стареющая роковая женщина… И смех и слезы.
В отместку за равнодушие мира, который даже не потрудился ее отвергнуть, а просто не замечал, мать идеализировала людей, природу и животных своей юности, оставленных в той далекой деревушке. Она все больше пила, все больше говорила о том, что надо вернуться.
Но ей легче оказалось снова преодолеть океан, чем последние триста километров, что отделяют Варшаву от Вигайн. Она никогда не ездила туда, хотя сначала все собиралась. И каждый раз появлялись какие-то непреодолимые препятствия. Плохая погода, нет модного платья, дурное самочувствие, мои уроки, мое неудавшееся замужество, моя профессия, затем устройство виллы на Садыбе, садик и грядки. Потом она перестала искать предлоги.
Препятствие таилось в ней самой.
Сознание, что она проиграла, страшное осуждение той жизни, которую вела. И никакого значения не имело то, что люди из нашего родного села разлетелись по свету или умерли, а остальные не знали ничего о перипетиях нашей судьбы. Стыд за свою жизнь и чувство вины за поступки она носила в себе.
И мне не хотелось нарушать устоявшийся ритм жизни, вот я и не ехала туда. Наверное, слишком рано меня с корнями выдернули из самого первого места на земле.
Но я и сама не поняла, почему меня так настойчиво потянуло в родные места, особенно после того, как в газете появилось то самое объявление с моей девичьей фамилией и названном села Вигайны, где я родилась.
Многие годы, не вызывая ностальгии, во мне сохранялся застывший, нежный, пастельный образ моей родимой стороны. Полонины и луга, болота и сумрачный лес, васильковое око озера и буйные травы. Теперь я увидела совсем другую реку, другие лес и луг. Приятный чужой пейзаж. А близким остался тот, прежний.
Я не почувствовала себя на родине, точно так же, как на Нижней Восточной, как в белом домике с черными наличниками, среди азалий и рододендронов.
Может быть, моя родина – в Варшаве, в вилле с садиком? Или в мастерской сценографа? Но на самом деле моя родина – в моих коврах. Только там мне хорошо, туда я убегаю от разочарований и предательства. От неумолимого времени, которое лепит меня, от будничных терзаний.