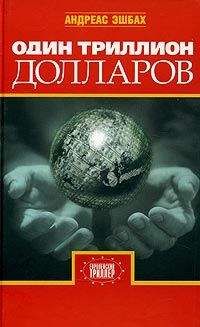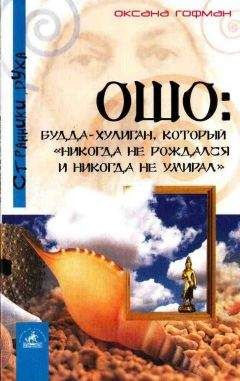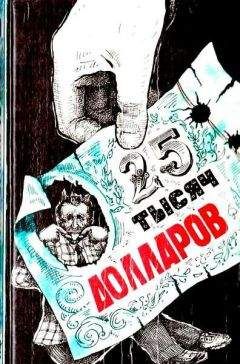Елена Кассирова - Пирожок с человечиной
– Не перебивайте, Матгена, – сказала Мира.
– Значит, женщины, – продолжал Костя. – Тоже крутятся. Взять Бобкову Матильду Петровну. Старый человек, а молодым фору даст.
– Догонит, и еще даст, – тявкнула горбунья.
– Не пегебивайте, Матигьда, – сказала Мира.
– Да все. И Раиса Васильевна, и Мира Львовна.
– Что – Мига Гьвовна, а? Что – Мига Гьвовна?!
– Не перебивайте, Мира Львовна, – сказали все. Кисюк Раиса Васильевна закусила губу. Она ерзала то и дело. Казалось, решалась.
– Наслушался я, Мира Львовна, в больнице разговоров.
– Газговогы.
– Ну, ясно. Я понял, когда прочел листовку про трансплантарий. Листовка была от абрамовцев. Афганцы подрядили их на расклейку туфты, чтобы выгнать вашу ЛЭК и занять лэковский флигель. Митинское эрэнъе тоже трудовое.
На лице Егора, как всегда, когда припирали к стенке, ничего не отразилось.
– Вообще-то, в больнице, – признал Костя, – я и сам испугался за анализ. Подумал, нарочно написали плохой, чтобы отнять почку.
– Да ну. Нажгался яиц.
– Вот именно. Наглотался гоголь-моголя.
– Вот и анализ. Мы студентами так нагочно хитгиги. Пожгем яйца, погучим спгавку, что кошмагный бегок в моче и что ехать на кагтошку негьзя.
– И с моргом я вас расколол. Устроили из морга учебку. Сдали полэтажа кафедре МОМИ.
– Ну да, кафедге судмедицины. У студентов в могге пгактика.
– Так что вас, Мира Львовна, я отмел. Не отмел, но поставил последней по конкурсу.
– Ах, конкурс, – раздались голоса.
– Не сердитесь, – сказал Костя. – Я не провидец. Но все-таки наш народ работал. Наши, как говорит Ольга Ивановна, бились. А потрошители играли. Слишком напоказ. Нате вам мусор, ручки-ножки. Нате вам кочанчик капустки. Гадайте: а где туловища, а что с ними? Люди и гадали.
Но это как раз бросалось в глаза: преступник навязывал улики, наводил на других. Выставил напоказ медицинские коробки: мол, смотрите, подозревайте, хотите – докторов, хотите – хулиганов. В общем, отводил всем глаза. Сколько подозрений подсунул! Черную мессу, варку мыла, торговлю почками, борьбу с конкурентом. Навязывал сплошную экзотику. Вот и надо бьшо искать что-то простое, бытовое.
Почему убита молодежь? Чем привлекла? Все разные по годам и складу. Притом безденежные. Ничего в них блестящего. Именно это и бьшо общим. Все они не семи пядей во лбу, не праведники и падки на легкий заработок. Могут мешать такие пройды? Еще как! Чем? Что-то узнали? Что? То, что не показывалось. То есть, показывают в одну сторону – смотри в другую.
Тут я шел верно, а потом сбился. Всё искал бездельника. Бездельничает, думаю, у нас один Жиринский. Корчит совестливого. «Ах, у меня бесы в гостях!»
Весь этаж знал: заперся – значит, с «бесами». Митя уже звал их на свой манер ангелами. Значит, думаю, Жиринский и есть душегуб.
Но, казалось бы, зачем ему убивать? Ведь у него была одна страсть – нажраться.
– И правильно, в задняцу, – пробурчала Харчиха.
– Я и видел, что он не убийца. Уж больно он скрытничал. Запирался, уединялся. Но сбил меня с толку шоколадный торт. Жирный сидел у Кати и не съел ни кусочка. Что ж, бывает просветление. А я всюду искал криминал. И, кроме того, стал ревновать. Вот и просмотрел гадину под носом. Подумал на Жиринского, верней, заставил себя думать. Дескать, убийца – сентиментален. Свихнулся я от ревности. Счел его гадом номер один, потому что Катя ушла, как мне казалось, – к нему. Решил, что он разделывает трупы и ест. Но ведь при этом было у меня чувство неловкости, понимал, что полез не туда, что все это байки! Идиот!
А ведь все Митино судачило: воруют в «трех семерках». Приплетали Катю. А помнили не лицо, а сходство: худая, в курточке, в красной шапочке. Да таких пол-Москвы. Но при желании обвинишь кого угодно. Мало того, я и сам купился на поволяевскую комедию. Опять думал – ревную, вот и мерещится Катя. А мы же сами ей таскали Катины шмотки. Говорили – гуманитарная помощь! А в «Патэ» была Поволяева, и тогда, и в первый раз.
– В какой первый? – спросила Катя.
– Осенью, по работе, – отмахнулся Костя. – Мог бы понять. Наворовала на красивую жизнь. Причем буквально… чего ж проще. Куда я, дурак, смотрел! Видел же и Опорка в дорогом кабаке. Денег наберет в переходе – и гуляет. Взять бы мне и связать концы. Бросалась в глаза эта их праздность. А я бегал по людям, боровшимся за грош.
– Ничего, добежал вовремя, – сказал Костиков. – А подозрения, что ворует, я выяснил, на нее раньше были. Да как-то отбояривалась. Артистка. Потом вдруг притихла.
– Какое притихла! – воскликнула вдруг Ушинская. – Работала у меня нянечкой – воровала в раздевалке детские деньги. Я смолчала, чтобы не отпугнуть родителей. Выгнала ее потихоньку. Взяла вместо нее старушку. Моет плохо, но не крадет. А эта пристроилась в автобусе. Ловко. Никто ничего не видел. А может, тоже боялись.
– Вот именно, – сказала наконец Кисюк. – Боялись, а видели. Поехали в автобусе на оптовку, заметили, что Поволяйка воровка. Таечка сказала ей. А та ей: «Выдь к чердаку». Таечка пошла. Пришла с автобуса усталая, выпила рюмочку и пошла. Зачем пошла? Говорила я ей – не шустри. А Таечка: «Рая, она денег даст». А я: «Не ходи». А она пошла.
– И молчали! – строго сказал Костиков.
– Все молчали.
– Кто – все?
– Думаете, одна я знала? Мать Ваняева знала. Боялась за детей. У нее еще трое. Эти грозили.
– Да ведь мы б их взяли!
– Вы их брали. А их – как тараканов.
– Умные все, – вздохнул Дядьков.
– Именно умные, – опять вступил Костя. – А ребята глупые. Дети своих родителей. Решили, что всех
умней. Думали заработать дуриком на шантаже. Я подозревал соседей, потому что все жертвы перли к нам на площадку. Думал – идут на этаж, а они – на чердак. Разумеется. Жалкую Поволяйку не боялись. Только что не топтали ногами.
– Топтали, – сказал Егор.
– Что ж, правильно, создала себе имидж. Разыграла драку. Устроила комедию с зубами.
– Зубы ей действительно выбили, – сказала Ушинская. – Давно. Старшие ребятки, за то же воровство. Но я тогда просила их помалкивать. Ребяточки хорошие, не сказали. И она тогда присмирела, потом зубы, смотрю, вставила. Так и забылось. Эх…
Она вытерла глаза и высморкалась.
– И никому бы в голову не пришло, – продолжал Костя, – выяснить, чем там она занята. Они давно обжили чердак. Я заметил, когда вошел, что труба течет, а в банке под ней – на донышке. Не додумал, что следили за течью и банку меняли. И в голову не пришло глянуть, что за хозяйство у них под грязными газетами. Помнится, я заглядывал на балконы. А она в это время на чердаке устроила мясобойню. А вынести ношу ей нетрудно. Шляется она всюду с бутылочной сумкой. На нее уже и смотрят – не видят. И действительно, ловко устроила. Инсценировала расчлененку. Тем и пустила по ложному следу. Останки есть, а туловищ нет. Что же с ними стало? Зачем понадобились? У людей, разумеется, разыгралось воображение. Кто винил одних докторов, кто других. А трупы Поволяева просто уничтожила.
– Как уничтожила? – спросил кто-то.
– Нагрела на плиточке. Там у нее хозяйство. Электроплитка, ведро, вода, ну… и, главное, сода.
– Каустическая сода, – как-то заученно вставил Костиков. – Знаем. Есть любители. Делают. Нагреют труп в соде с водой – и привет.
– Я понял задним числом, – сказал Костя. – А сперва только восхищался, как чисто у нас вымыт содой коридор. Аж добела.
Кто-то сказал «фу», кто-то плюнул.
– Нет уж, гучше пусть ггязно, – сказала Мира. – Сами убегем.
– Мы-то уберем! – задребезжала Бобкова. – А га-дину-то кто уберет? У нее хахаль Стервятов.
– Во-первых, Стервятова уже убрали, – сказал Костя. – Во-вторых, какая она любовница! На Берсеневке тоже ломала комедию. Расфуфыренных красоток не подозревают. Посплетничают, что спит с кем-то – и успокаиваются, А за шик уважают. Кого чем удивишь. Наоборот, чем фантастичней, тем убедительней.
– Совсем потеряла стыд, – сказала Раиса Васильевна. – Одни деньги.
– Ничего святого, – согласилась Ушинская.
– Не человек, – страдальчески сказала Нинка.
– Не женщина, – уточнил Блевицкий.
– Пярожок, в задшщу, с чяловечиной – определила Матрена Степановна.
– Дгянь, – закончила Мира Львовна. Перевели дух.
– Но неужели в автобусе наворуешь миллионы? – мечтательно спросил Аркаша.
– В митинском – запросто, – сказал Костя. – В наших «трех семерках» все Митино плюс кто на кладбище.
– Но между прочим, – сказал вдруг Жиринский, – не пойман – не вор. Шапочка, курточка! Говорить говорят, а где свидетели?
– Есть, – живо отозвался Костиков. – Вчера тетка пришла с заявлением. Бабаева фамилия. С Дубравной. Мы ей показали фотографии. Опознала Поволяеву и Касаткина.
– Тетку помню. Но я не крал, – сказал Костя. Все вздохнули без улыбки.
– Мерзкий народ пошел, – заявила Бобкова.
– Это верно, – подтвердил Беленький.