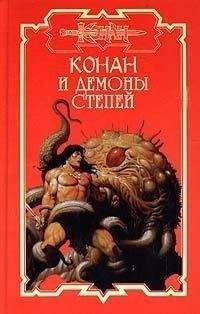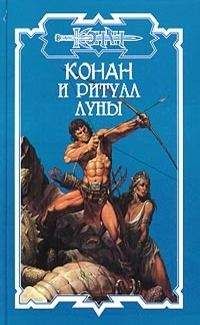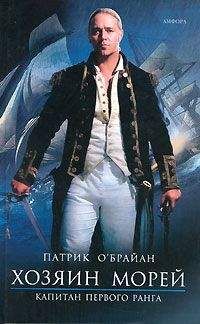Брайан Випруд - Таксидермист
– Да, но как мой холефтерин, доктор? Мовэт, мне надо ефть поменьфе ливерной ковбафы, как вы ффитаете?
– Мистер Палинич, это не шутки. – Врач, увещевая, погрозил ручкой Николасу и снова повернулся ко мне. – Если вы… Прошу прощенья! – Застав санитара врасплох, Николас прянул с кресла и, рыча, схватил зубами перо доктора Шумэйта. – Мистер Палинич! Прошу вас! – Доктор пытался вырвать ручку у Николаса. – Это ребячество, мистер Палинич!
Взгляд, которым эскулап окинул приемный покой и захихикавших больных, говорил, что доктора больше интересует его имидж, а не возвращение авторучки.
– Николас, может, все-таки пройти томографию, а?
Больные, в ком осталась хотя бы унция юмора, ржали уже так, что врач покраснел, выпустил ручку и ринулся из приемного покоя.
– Сестра! – долетел из-за дверей его визг.
Николас выплюнул ручку на пол.
– Пофли отфуда, Гарт. Мне нувна твоя помофь. – Он посмотрел на санитара. – Мовеф идти, фынок. Дервать меня против воли – недаконное лифэние фвободы, префтупление, караюфеефя до трех лет в тюрьме фтата. Могу подвать копов, ефли хофефь. Около больнипфы обявательно пафетфя парочка.
– Я отвезу его домой, – заверил я.
Джо закатил глаза и отступил назад. Я помог Николасу подняться на ноги.
– Ходить я могу, Гарт, это на липфэ у меня фпляфали мамбу.
– Прошу прощения! – В комнату ворвалась медсестра, нервно оправляя на груди форму. – Ему нельзя уходить!
Мне тут же пришло на ум слово, близкое к одному из красочных русских выражений нашего Отто. Но несколько лет назад я научился считать до трех, перед тем, как отвечать. А еще лучше – до пяти.
– Нельзя уходить, пока его не выписали! – верещала сестра.
– Я как раз согласен, что ему надо остаться, но он хочет уехать. – Она видела, как я медленно свирепею. – В общем, мы выписываемся. Прямо сейчас.
Перед больницей стояло такси, и мы оторвали водилу от отдыха с «Клево-Формой». Я запихал Николаса на заднее сиденье и назвал водителю свой адрес.
– Вабей на этот адреф, феф. В фентр, угол Уотер-фтрит и Дувр-фтрит, рядом ф мофтом. – Николас вытянул ладонь к моему лицу. – Я внаю, Эндвы хочетфа меня повыхавывать. Выкинь ив головы. Они внают, где вы вывете, но не внают, где выву я.
– Кто? И что у тебя с лицом?
– Нафы друвья ретрифты – вот фто у меня с липфом. Нафтояфие профи, внаеф, надо привнать. Били ладонями, ф перпфятках. Вубы вфе пфелы. Губы радбиты изнутри, об вубы. Ноф опять фломан, но пфёрта ли в нем. Не лифыли врения, не фломали трахею. В офновном ффадины, фыфки. Пфереф пару дней я буду крафавтфик ф рекламы «Тэрритона»,[74] делов-то. – И как бы в подтверждение он приоткрыл один заплывший глаз. Белок пронизывали красные сосуды.
– Я понимаю, доктор мудак…
– Покавы, кто нет, – пробурчал Николас.
– …но тебе надо кому-нибудь показаться с головой. Может быть кровоизлияние.
Его вывернутые губы выплюнули смешок:
– Фряд ли. Меня ва руки приподнимали от вемли, фтобы голова не билафь. Фэя только на нефколько дней онемеет. А головные боли? У меня и так фамые вуткие в мире. Тайленол и кодеин? Плапфэбо. Феф? Тормовни у того магавинтфика. Да, тут. Гарт, не хотфефь купить младфему брату немного фкотфа, будь другом.
– Ты хорошо подумал?
– Ты фто, не внал, фто вифки – антикоагулянт, док Карфон? Раввывает крофь, равбивает тромбы, которые, как ты боиффя, обравуюпфа у меня в мовгу. Купи «Макаллан», ага? Какой фмыфл в полумерах?
Мы остановились, и я безбожно переплатил за односолодовый виски. Поехали дальше.
– Узнаешь их? – спросил я, когда мы поехали дальше.
– Моэбыть… – Это, как я знал из прежнего опыта, означало, что ответа не будет. – Феф? Внаеф автомойку вон там, налево? Поехали пферев мойку, давай? За мой ффёт.
– С головой точно что-то не так. Автомойка? – сказал я.
– Ради бога, Гарт, я бы не фтал тебя утфить, как пфифтить бивонью фкуру, ефли бы ты не… Да, шеф вон туда.
Через пару минут мы заехали на автомойку, мыльные ручейки побежали по стеклам со всех сторон. Шофер, казалось, не усматривал в этом ничего необычного; думаю, иные таксисты видели все на свете.
– Вот. – Николас вынул из рваного пиджака какую-то колбасу, оплетенную мазохистскими кожаными ремешками.
– Что это? Дубинка?
– Вовьми. У меня им влепить не выфло. Мовэт, у тебя полутфится.
Я оттолкнул дубинку:
– Где это было, Николас? Около моего дома?
– Не. Я поехал обратно в тфентр на еффе одну туфовку ретрифтов.
Николас отпил из бутылки и содрогнулся. Стена колышущихся войлочных полосок наползла на ветровое стекло и осьминогом взобралась на крышу машины.
– Фтоп тебя, больно! Твари! Я внаю одну девфёнку, офипфыантка и певипфа. Я фпрофил о ней в баре. Мне передали вапифку – мол, пройди ва кулифы. Я профол в гримерку, как напифано, а там пфетверо: фмокинги, фтривки ёвыком, и клетфятые куфаки, как у грёбаной «Пфетвёрки парней»,[75] только у этих литфа вамотаны бинтами.
– Как у мумий?
Искусственный дождь со всех сторон взбивал мыльную пену, впереди размытой картинкой быстро приближался строй огромных розовых малярных валиков.
– Да, Гарт, как у мумий. Обыпфная практика в некоторых кругах. Вытефняет ревиновые мафки Никфонов и Плуто.[76] И боковой обвор фыре. Потом они потаффили меня обратно на улипфу, в фургон, поехали – и понефлафь. Выкинули меня у въевда в тоннель Линкольна, тупые чмофники.
Он коротко хохотнул, откинувшись назад, влил в себя еще виски, после чего злобно выругался в несколько разрозненных фраз. Розовые валики забарабанили по капоту, крыльям, крыше и дверям. Опять пошел дождь.
– Не могу поверить, как ты можешь радоваться, что…
– Камеры, Гарт! Там повфюду камеры – наблюдать ваторы в Линкольн-тоннеле. Я внаю людей, которые внают людей. Мовет, удафтфя давэ выпфэпить номер мафыны ф видео. Валь, было темно.
– Я думал, эти типы ездят на угнанных.
Николас разочарованно поглядел на меня кровавым глазом:
– Иввините, мифтер Блофыный рынок, но фто вы вообфе внаете об этих типах? – Я пожал плечами. – Ладно, у меня к тебе вопрофик, брат. Ф какого рода типами ты внаком, фтобы нофили фмокинг ф клетфятым пояфом на ивбиения?
– Хорошо, Николас, хорошо.
На мойке включили аэродинамическую трубу, и капли побежали по стеклам во всех направлениях.
– Внаеф, бандюги – они не угоняют мафыны, фтобы фвозить кого-то на прогулку. Они берут фемейный федан. У них ефть гонор – это тебе не фельфкие клоуны, которые грабят киофки, знаеф, эти типы. Ты фпрафываеф? Мумии в клетфятых пояфах были довольно уверены в себе. У них ефть гонор.
– Но как… Ладно, ну его.
– Валяй, говори.
Я посмотрел на него пристально. От всех этих событий – начиная с убийства Марта и до отбуцканного Николаса – мне сделалось дурно. В кишках похолодело. Но метаться мой ум заставил именно эмоциональный и интеллектуальный стресс от такого наглого насилия и запугивания. Я в опасности. Энджи в опасности. Они знают, где я живу. И даже полиция – угроза для нас. Ситуация, в принципе, незнакомая и совершенно отвратительная, и мой немедленный детский рефлекс был – остановить ее, как пластинку на проигрывателе. Или даже открутить ее к началу и вовсе не включать эту кошмарную песню.
– И вот этого ты хотел от жизни? – наконец пробурчал я. – Таскаться по барам, получать по башке, накоротке общаться с отребьем? Боже. Ведь ты был умным, честолюбивым…
– Не, я передумал. – Он горько посмеялся. – Не обфятфя, братетф. Быть им.
Мокрое ветровое стекло ярко засветилось – такси выезжало с мойки.
– Феф? Мы фефяф прилявем на фиденья. Фуфыть мафыну не надо. Вклюфи «Конетф фмены» и катифь по Бродвею, будто едеф домой, лады?
Шофер прочистил горло:
– Это будет дороже.
– Ну вот, я уве подкинул ва мойку. Пять бакфов, лады? Таксист пожал плечами:
– Ладно.
Я лег на сиденье, мои буйные волосы запутались в жесткой щетине на голове Николаса.
– Зачем мы…
– Ефли ва нами фледят, то подумают, фто мы подорвали ив тафки в мойке и оторвалифь от них.
– Хм-м. Не так уж глупо, братец.
– Ого, фмотри-ка, – хихикнул Николас.
– Извини. За нотацию, то есть.
Он не ответил – в кои-то веки. Вообще-то, если знаешь Николаса, наверное, в ответ на извинения лучше всего рассчитывать на то, что он просто пожмет плечами. Мы лежали, а свет уличных фонарей проплывал над нами по потолку машины, и это напомнило мне «походы» с ночевками на заднем дворе, которые мы устраивали вдвоем, когда мне было десять, а ему – семь. Лучи фар, скользившие по переулку, ползли через наш двор, отражаясь в окнах соседей, мерцали сквозь рябь палатки над головой, как северное сияние. Была, наверное, осень – довольно холодно, сказала мама, и нас не заедят комары и мы не сваримся как кукурузные початки в наших затхлых списанных армейских спальных мешках. На деревьях еще было много листьев, но уже сухих: они шелестели на ветру, и звук был как от воды, падающей на камень. Отрываясь, листья плыли в отсветах фар причудливыми тенями. Мы с Николасом воображали, что мы на Юконе, спим возле своего прииска (идея Николаса), глядим на северное сияние, и силуэты Спутников проплывают сквозь светящиеся туманности. Мы говорили о прииске: какой глубины шурф, какие у нас каски с фонариками на лбу, как мы питаемся одними хот-догами, картошкой-фри и молочными коктейлями, у нас есть отбойные молотки и мы каждый день взрываем динамит. В те дни в нас обоих, бывало, просыпалась буйная, как у всех детей, фантазия. И как братьев нас сближало прежде всего то, что мы делили тяготы и унижения от родителей (галстуки-бабочки, семейные фотографии, чай у тети Джилли, уроки танцев). Но отрочество вбило между нами клин соперничества, и у меня, старшего брата, не осталось таких слов, какие Николас захотел бы слушать.