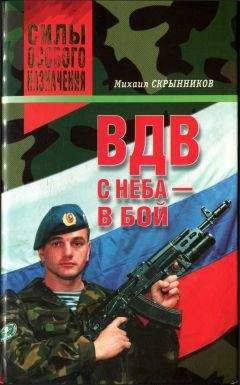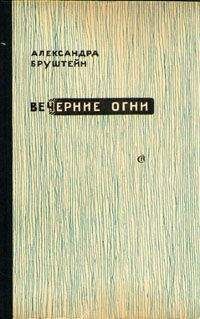Игорь Тумаш - Дело рыжих
Долго около него никто не задерживался, зрители текли, обновлялись. Прищепкин не повторялся, рассказывал все новые байки. То, оказывается, он погиб в семьдесят втором году в Ростове–на–Дону. При перестрелке, когда брали банду братьев Толстопятовых. То молол что–то про Чечню.
Несколько раз за день к нему подходила милиция: это что там за герой такой соловьем заливается? Прищепкин отводил коллег в сторону и предъявлял удостоверение.
Он протусовался на переходе восемь дней. Однако сумасшедший «рыжененавистник» так и не появился, не дал о себе знать. Стало быть, его на свете вообще не было. Прямолинейная и слабая «рыжененавистническая» версия потерпела крушение.
1 июля, Брянск, Россия.Был он рыжий, как из рыжиков рагу
Рыжий, словно апельсины на снегу.
(Из популярного шлягера 1970‑ых «Баллада о красках».)
Когда–то Севу Марочкина называли Рыжиком. Друзья, однокурсники, девушки, которых он любил платонически, доступные дамы, которых он любил физически и ради этого угощал агдамчиком. Все называли. Даже мать. А все из–за удивительного цвета волос. Сейчас бы, вероятно, сказали, что апельсинового… Но тогда апельсины в магазинах бывали только для начальства и в канун Нового года. И не оранжевые, а зеленоватые, кубинские. Зато в лесах еще не были редкостью рыжики. Поэтому и прозвали его Рыжиком.
Тогда, в шестидесятых, и алкашей–то, в таком не поддающемуся никакому учету количестве, еще не было. Официально они вообще как бы отсутствовали. Фронтовики, как считалось (их очень много еще оставалось, не старых, пятидесятилетних), «водку не пьянствовали», а только «тостили». За победу над фашизмом, за гений Жукова, поминая погибших друзей и товарищей… Но им как бы прощалось, клейма позорного на фронтовиках не ставили. И других пьяниц, заодно, вроде как тоже не было. Ведь социализму это явление, пьянство–то, не свойственно в принципе. Это ведь, считалось, только в капиталистических странах из–за стресса — секс, насилие над неграми, безработица — простым людям ничего, кроме как прикладываться к бутылочке, просто не оставалось. И еще одна причина, почему на алкоголизацию населения закрывали глаза, была экономическая. Государству элементарно нужны были деньги. На все новые бомбы и сало. Для той же Кубы.
Как умру — похороните меня в кукурузе,
По бокам чтоб был горох, химия на пузе.
А Фиделю передайте, что меня не стало,
И не будет у него — ни муки, ни САЛА.
Поэтому, когда Сева с друзьями выпивал, мать только похохатывала, не чувствовала опасности. Даже денег на похмелку давала.
В семидесятые фронтовики начали активно из жизни уходить и как бы передали эстафету зеленого змия молодежи уже на официальном уровне, — власти наконец пришлось признать, что алкаши валяются не только на мостовых Торонто и Сиднея, Мадрида и Токио, эту картину можно наблюдать и в Москве, и даже в колыбели Революции Ленинграде!
Надо признать, что молодежь надежды фронтовиков оправдала! Запили в колхозах, запили в совхозах, запили в открытом море, в космосе и в шахтах. Власть даже испугалась и начала с алкоголизмом бороться.
Ах, как хорошо пилось после собраний по «пропесочиванию». Когда, выйдя за порог цехкома, виновник торжества «проставлял» за мягкую формулировку председателю и «наливал» выбранным в цехком «членам рабочего коллектива».
Таким образом, Рыжик безмятежно пил целых тридцать лет: с начала шестидесятых до начала девяностых. И за это время пропил все: жену, детей, квартиру, работу. Даже родную мать Рыжик, можно сказать, пропил: она умерла от какой–то скоротечной болезни, не выдержав каждодневного зрелища пьяной, безвольно ухмыляющейся, битой морды сына.
Оказавшись на улице, Рыжик стал жить обычным бомжатским промыслом: собирал и сдавал картон, бутылки. Осенью воровал на колхозных полях кукурузу, варил и торговал початками в переходе у вокзала. От такой же бомжихи, артельно с «товарищами по общежитию» в заброшенном коровнике, заразился сифилисом. Не лечился, все как–то некогда было. Да и кто бы его, впрочем, лечил: грязного, беззубого, вонючего, без паспорта? Какая больница? Его и милиция–то брезгливо обходила. А ведь Рыжик с удовольствием бы пересиживал в тюрьме зимы — пусть у параши, зато в тепле и с баландой. Увы и ах! Даже для тюрьмы Рыжик мордой не вышел.
Кстати, о рыжиках. Цвет спутанной, сальной шевелюры «позднего» Рыжика напоминал уже гриб валуй. Изъеденный червями. Рыжиком не называл его теперь никто. Марочкина вообще называть перестали, обращались «эй».
Так вот, в ночь на 1 июля в городе бесновался ливень. Марочкин, клюкнув «стекляшки», то есть бирюзового стеклоочистителя, скрючившись, умирал в подземном переходе. Ну сколько так можно жить, зачем? Утром бы его чин–чинарем отвезли в морг судебной экспертизы.
Но судьба распорядилась иначе — это пришлось делать еще ночью. Потому что около часа некий неустановленный гражданин застрелил Марочкина, а в половине второго кто–то позвонил в милицию. Самое интересное, что смерть бомж принял от дорогого американского «магнума». Кому–то захотелось опробовать на нем оружие?.. Конечно, так объяснить происшедшее было бы проще всего. Однако характер убийства красноречиво говорил о… заказном характере. В Севу Марочкина стреляли два раза: первая пуля прошила сердце, вторая — контрольная! — его пустую, бывшую когда–то ярко–рыжей голову.
(по мотивам заметки «Странное убийство» в газете «Вечерний Брянск» № 179 от 2 июля сего года)
Время было уже позднее, и Прищепкин после планерки, на которой получил от ребят за эксперимент большой нагоняй, развез их по домам. Так как Бисквит поссорился с подругой и переселился в офис своей кулинарболистской ассоциации, то Георгий Иванович подкинул его к ЖЭСу.
Вопрос на засыпку: ну зачем Лешка связался именно с кулинарболисткой? Что, баб кругом мало? «Общность интересов, общность интересов…» Как можно было забыть старинную народную пословицу: два кулинарболиста на одной жилплощади, что два медведя в одной берлоге. Так и получилось: они чуть не дрались за готовку обеда, закармливали друг друга всякими вкусностями. Тесно стало им не только в тренировочном смысле, но и в физическом: кухня в их полуторке была семиметровая, а каждый из спортсменов весил далеко за центнер. Лично Станислава, если конкретно, так сто двадцать четыре килограмма. Люди добрые, почаще приникайте к криницам народной мудрости, это поможет вам избежать в жизни многих ошибок.
Вернувшись домой, Прищепкин почувствовал, что спать ему, несмотря на ночь за окном, совершенно не хочется. Внутренние часы сбились окончательно. Ну что ж, давно пора было переработать собранную информацию, грызя орехи в жестком золотом кругу света настольной лампы. Георгий Иванович отрегулировал светоотражатель таким образом, чтобы россыпь орехов на столе находилась внутри круга, а место для колючей горки скорлупок — в тени. За работу, сыскарь, врубай мыслительный аппарат! Гей, нувориши в ресторане «Лукойла», не вякать, чтоб вели себя как мышки под веником — то есть тихо–тихо! Хвастайтесь друг перед другом коллекциями партбилетов и банковскими счетами в офшорных зонах в письменном виде!
Итак, что мы имеем? Четыре смерти: Сбруевича, его жены, Блинкова и Дземы. Еву Леопольдовну убивают как бы вслед за мужем, Дзему — за Блинковым… Ну, с путаной, положим, все ясно сразу: чтобы запутать следы, убрали исполнителя, есть такая практика. Но почему Еву Леопольдовну убили с такой оттяжкой по времени? Ведь если бы она могла дать какие–то свидетельские показания по делу об отравлении мужа, то возможности у нее такие были.
Долго, очень долго размышлял Прищепкин над этим вопросом. И так и этак его поворачивал. Наконец, сам не зная зачем, вырезал четыре квадратика бумаги и на каждом написал имя убитого. Рядом с квадратиком «Кшиштоф Фелицианович» разместил квадратик «Ева Леопольдовна», рядом с «Блинковым» — «Дзема». Ну, и что дальше? Что, что, что, что? Еще с час мучил себя Георгий Иванович, и все без толку. В раздражении смел ореховую скорлупу в урну и набил трубку.
И тут каким–то шестым чувством почувствовал, что для выстраиваемой интуитивно схемы не хватает еще одного квадратика. С именем «Сидор». Пусть единственный сын четы Сбруевичей умер своей смертью, от болезни. Но ведь его нет среди живых, и он тоже, по отцу, рыжий.
Ладно, Георгий Иванович оформил и на него квадратик, поместил между отцом и матерью, убрал «Дзему» — уж ей–то делать здесь точно нечего! И получилось как бы два «рыжих рода», чье существование на Земле закончилось, чей генетический код теперь уже навсегда останется утерянным.
Хм, а ведь это уже кое–что. Хотя, возможно, и ничего, по–прежнему ноль. Тем не менее, продолжу–ка я эту линию, решил Георгий Иванович. Во главе этих родов — Сбруевич и Блинков. Следовательно, все внимание нужно сосредоточить на них.