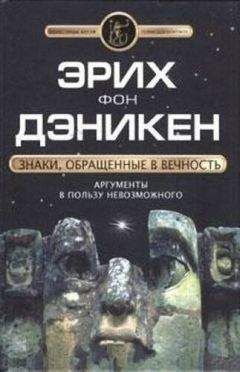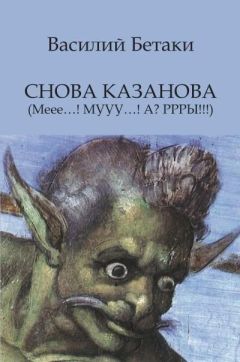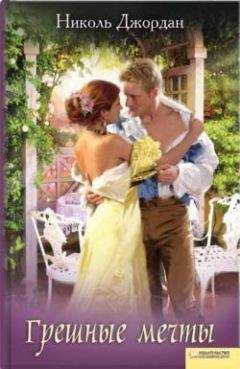Подвал. В плену - Нойбауэр Николь
Дверь захлопнулась. Вехтер вздохнул. Больше всего ему сейчас хотелось, чтобы его отправили в палеонтологический музей. Среди всех этих загадочных скелетов он чувствовал бы себя как дома. Иногда ему казалось, что все человечество уехало в третье тысячелетие, бросив его на обочине шоссе. Элли опять на него обиделась?
Вехтер сейчас охотно подымил бы с Ханнесом возле дверей, но его место пустовало. Оно было настолько пустым, словно тот вчера уволился. Только автоответчик мигал, и на клавиатуре лежал розовый листок для записей. Зажужжал факс и стал выплевывать один лист бумаги за другим. Вехтер понял, что это, даже не глядя, лишь заметив, что это бланк управления уголовной полиции Баварии. И минуты не потребовалось, чтобы найти среди таблиц и медицинских терминов графу, где значились результаты анализов.
«Терпение и труд все перетрут».
Он позвонил Ханнесу.
– Что там такое? – заорал тот в трубку, перекрикивая шум машин. Наверное, он еще не добрался до дома.
– Управление уголовной полиции Баварии прислало результаты ДНК. Кровь на руках Оливера совпадает с кровью нашей жертвы.
Вместо ликования на другом конце воцарилось молчание.
– Ты еще там?
– Послушай, – произнес Ханнес сдавленным голосом, – у меня дома стрессовая ситуация. Как только управлюсь, снова включусь в работу. Приступайте пока без меня.
Это был не тот Ханнес, который расследовал дело и впился зубами в Баптиста, как питбуль. Что бы там ни заставило его уехать с работы, это было важно.
– Ханнес, у тебя все в порядке?
– Нет, – ответил он, и связь оборвалась.
Вехтер еще несколько минут посидел на своем стуле – спокойные минуты в оке урагана, в которые он еще мог вообразить, что все будет хорошо. Только когда комиссар стал потеть в зимнем пальто, он взялся за телефон.
Паульссен окунул кисточку в краску и вытащил ее, ставшую алой, словно он вынул ее из открытой раны. Неуверенной рукой он поднес кисть к холсту. Кончик трепетал перед белым полотном. Он сдался и убрал руку назад. Еще никогда он так не дрожал, когда рисовал. Как же раньше это ему удавалось? У него в голове была точная картина, его руки делали то, что он хотел, – и рисунок появлялся на холсте мазок за мазком.
Но теперь он ничего не видел в своем воображении. Паульссен опустил кисточку, почесал лоб, огляделся в комнате. Со всех сторон на него смотрели розы, он знал их, они имели смысл, но они не помогали ему. Они соскакивали с полотен, злобно шипели ему на ухо, словно высмеивали художника с палитрой, которая дрожала у него в руках. Взмахнув кистью, он снова поднес ее к полотну и сделал мазок, а потом и второй. Две коварно изогнутых линии пересеклись на холсте. Это было бессмысленно. Он понятия не имел, что делает. А сегодня утром у него еще получалось. Готовая картина сохла в углу, распространяя по всей комнате терпкий запах масляных красок. Наверное, что-то изменилось во время послеобеденного сна. Когда он проснулся, оказалось, что его ботинки промокли, на полу было полно грязных луж и камешков гравия. Ходунки стояли в углу, они оставили на ламинате два мокрых следа. Сиделка отругала его: «Ну вот опять, – сказала она, – снова началось».
В последнее время она часто его ругала. Он якобы сбегал, никому ничего не сказав, выходил на улицу без сопровождающего, и никто не знал, где он был. Ему сказали, что, если так и дальше будет продолжаться, его переведут в закрытое отделение. Закрытое отделение, ха-ха. Это был склеп, из которого живым не выходил никто. Ему нужно взять себя в руки, собраться, иначе они упекут его на этаж, где по коридору шатаются старые бабы в ночных рубашках, кричат и зовут своих детей. Может, он на самом деле выходил на улицу и позабыл об этом. Он столько всего забывал. При этом он помнил о других вещах, которые произошли так давно, что, казалось, окуклились в его памяти. Склероз съедал кусочки воспоминаний, когда он спал, и теперь отнял у него последние.
Эта тварь позаботилась обо всем. Она отняла все, что у него оставалось, забрала с собой в могилу. Чтобы сломать его раз и навсегда.
Во всем была виновата эта тварь.
Паульссен швырнул кисточку на пол. Красные брызги усеяли линолеум, как свежая кровь.
Свет зажегся, когда Ханнес завернул во двор. Еще было совсем светло. Йонна выбежала ему навстречу в резиновых сапогах и рабочей куртке, которая болталась на ее плечах. На втором этаже загорелся свет, и у Ханнеса на миг появилась дикая надежда, что все еще наладится. Но Йонна ее сразу разрушила:
– Она тебе не звонила?
Он покачал головой в ответ.
Йонна взяла его под руку и повела к входной двери:
– Давай сначала зайдем в тепло.
На кухне пахло чаем. Из пакета на стол вывалились покупки. Йонна неловкими движениями принялась наводить порядок.
– К сожалению, ничего нового. Я пробыла два часа в полицейском участке, объявила ее пропавшей, позвонила по всем возможным номерам, объездила окрестности на машине…
– Стоп-стоп. Ты не обязана этого делать. Она не твоя дочь. И я виноват в том…
Йонна развернулась к нему с банкой томатной пасты в руках:
– Ты не виноват. Не сходи с ума.
Он обнял жену. Ее волосы блестели, будто вычесанный лен, и Ханнес зарылся в них носом.
– Мне очень жаль, что все это свалилось на твои плечи. Теперь я здесь. Я буду искать ее.
Йонна отстранилась.
– Ты не будешь ее искать. Твои коллеги сделают это. Просто доверься им.
– Она никогда мне не простит, если мы натравим на нее ищеек.
Лили не скрывала, что ненавидит его профессию. Полицейские были для нее врагами, которые выдворяли ее из торгового центра, когда она должна была находиться в школе. Прогоняли ее со ступенек в центре города и выливали ее «Ред Булл» с водкой в ливневую канализацию, проверив дату ее рождения в паспорте. А отец, работающий в полиции, – для Лили это был сущий кошмар.
– Самое главное, чтобы она сейчас была в безопасности, – сказала Йонна.
– А если нет? Если… если… – Он умолк. Ханнес еще не был готов к этому «если», к этому хороводу мыслей.
«Наверное, она все спланировала заранее, еще с вечера уложила чемодан и удрала, когда Йонна отправилась с младшими за покупками. Как она отсюда уехала? Все равно. Лучше цепляться за уверенность, что она действовала сознательно», – думал он.
– Есть хочешь?
– Не сейчас. Где дети? – Он потер глаза рукой. – Младшие.
– Они заснули еще в машине. Хочешь их увидеть?
Он поднялся на цыпочках по лестнице, избегая ступать по скрипучим половицам. Осторожно толкнул дверь в спальню. Оба малыша спали на большой семейной кровати, которая занимала почти всю стену под окном. Тихий кашель донесся из темноты. Лотта. Она может проснуться от кашля и разбудить Расмуса. Он нашел бальзам с тимьяном и миртом на ночном столике, подошел к Лотте и натер пахучей мазью ее грудь. Она закашлялась и выплюнула соску, потом снова засунула ее обратно, и все это во время крепкого сна. Слюнявчик развязался и лежал у изголовья кровати. Ханнес надел его обратно, тот пах Лоттой и бальзамом. Он взял ее за ручку и погладил мокрые от слюны пальчики.
Он уже держал когда-то в руке такие же пальчики двухлетней девочки с черными локонами, это было очень давно. Ханнес забыл, какой на ощупь была рука Лили. Когда он в последний раз видел дочку, ей было четыре года – пухленькая девочка с косичками стояла в коридоре и ревела, потому что они с Аней кричали друг на друга через порог. И в какой-то момент дверь захлопнулась у него перед носом. Тогда Ханнес не представлял себе, что еще много лет не увидит дочку. Если бы он начал стучать в дверь, Аня вызвала бы полицию.
Он оставил ее в беде, они – мать и дочь – все время вдалбливали ему это в голову. Возможно, они были правы. Конечно, они были правы. Если найдут Лили, он немедленно станет для нее настоящим отцом.
Ханнес заглянул в комнату Лили – свой бывший кабинет. Кровать была не застелена, больше ничто не напоминало о том, что тут жила девочка-подросток. Только ее зимняя куртка валялась на полу, новая куртка с темно-красным мехом, которую они вместе купили на Мариенплац. Лили гордо вертелась перед зеркалом, не желая ее снимать. После этого он пригласил ее пообедать. Это был отличный день для отца и дочери.