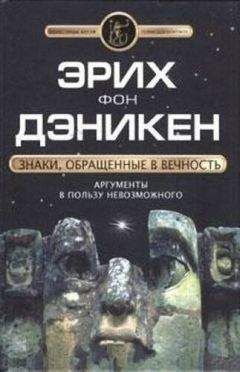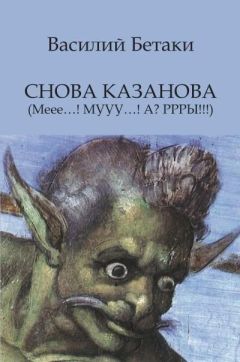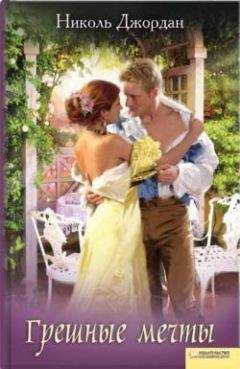Подвал. В плену - Нойбауэр Николь
Оливер открыл глаза, но взгляд его остекленел и казался совершенно бессмысленным. Словно в замедленной съемке, он повалился на бок.
В голове Вехтера пульсировала лишь одна мысль: «Нет, только не это снова!»
Он обернулся к полицейскому:
– Не стойте как истукан, приведите отца! Быстро!
Снаружи это здание напоминало «Дом солнечного света» [35]. Или обычный дом со съемными квартирами. На женщине, которая сидела за приемной стойкой и охраняла стеклянную дверь, не было белого халата, только простой брючный костюм. Она словно намекала: «Я всего лишь администратор, а не санитарка. Все будет хорошо». В приемной звучала музыка, повсюду стояли кадки с цветами, которые на первый взгляд выглядели как настоящие, а не как декорация для мероприятий наподобие конкурса «Сидячие танцы» или лекций о диете для диабетиков. Благодаря этим цветам создавалось впечатление, что находишься в гостинице. Элли спрашивала себя, зачем пожилым людям диеты? Если она доживет до старости, то будет есть столько, сколько захочет, пить, курить и глотать все разноцветные пилюльки, которые сможет выбить из врача.
Две старушки, сидящие на диване, следили за ней. Они напоминали сов, головы которых могут поворачиваться чуть ли не на 360 градусов. К обеду они наверняка подготовят для своих соседей подробный отчет: кто, кого, когда и зачем посещал. Под их бдительными взглядами Элли остановилась возле стойки администратора.
– Ах, господин Паульссен, это так хорошо! У него ведь никого нет. Вы родственники?
– Что-то вроде того. – Элли улыбнулась и покосилась на двух «сов», которые навострили уши.
Она не могла так сразу вспугнуть весь пенсионерский отряд. Кто знает, что может наделать новость о визите уголовной полиции в доме опеки. Слова «полиция» и «убийство», распространяемые по беспроводному телеграфу и помноженные на дырявую память и буйную фантазию, могли спровоцировать апокалипсис, по сравнению с которым конец света по календарю майя покажется всего лишь упавшей с крыши сосулькой. Кроме того, Элли интересовала правда, а не коридорное радио. Под мышкой у нее торчали телевизионные журналы и коробка шоколадных конфет: она хотела предстать перед стариком в лучшем свете.
– Комната двадцать четыре. Это в открытом покое. Можете прямо пройти туда. Третий этаж.
Ага. Значит, здесь есть еще и закрытый покой. Паульссен, похоже, не считался тяжелым случаем, это внушало надежду. Но это также означало, что он мог свободно входить и выходить, когда ему вздумается.
Она поспешила вверх по лестнице и постучала в дверь с номером 24.
– Да, – повелительно отозвался мужской голос.
Элли нажала на ручку двери. В нос ударил едкий запах скипидара. Она прикрыла рот рукой. Мужчина сидел к ней спиной и мыл кисточку, которая со звоном стучала о края банки. Этот звук она помнила с детства, на Элли нахлынули воспоминания: как она рисовала акварельными красками и полоскала кисточку в стакане с водой. Воспоминание исчезло так же быстро, как и возникло. Здесь не было никакой акварели. Темно-красное облачко масляной краски расползалось в растворителе. Стены были увешаны полотнами, на полу рядами стояли картины. Один повторяющийся мотив – розы, повсюду розы. И всегда один-единственный цветок.
Позавчера точно такой же цветок оказался в ателье Франци, и та сочла его неприемлемым. Элли нашла автора. И оказалась у истоков этого личного послания.
В этой розовой круговерти мужчина, казалось, растворился, стал прозрачным. Белоснежные седые волосы над его головой напоминали нимб. Он медленно обернулся.
– Я вас не знаю.
Его голос скрипел и визжал, словно художник не привык им пользоваться.
Элли протянула мужчине подарки, чтобы выглядеть доброжелательной.
– Элли Шустер из уголовной полиции Мюнхена. Мне очень жаль, что приходится вас беспокоить, но мне нужно задать вам несколько вопросов…
Старик отмахнулся:
– Я ничего не покупаю. Я ничего не подписываю. Вы можете идти.
Она стояла с глупым видом, с журналами «Голденен Блатт» и с коробкой шоколадных конфет. Паульссен не собирался их брать, поэтому девушка положила все это на край стола, усыпанного выдавленными тюбиками из-под краски. Элли подошла ближе и наклонилась к старику, чтобы он ее понял. Кисловатый запах растворителя, который она уже почти не ощущала, снова ударил ей в нос.
– Вы знаете Розу Беннингхофф?
Белая щетина покрывала его подбородок. От неожиданности он остолбенел. Бесцветные глаза уставились куда-то в пустоту. Тема Элли Шустер нашла отклик. Она сунула старику фотографию, на которой была изображена взрослая Роза.
– Вы знаете эту женщину?
– Я ее не знаю.
– Почему госпожа Беннингхофф хранила вашу картину и ваше фото? Вы знали ее раньше?
– Я ее не знаю. Я ничего не подписываю.
Офисный стул на колесиках повернулся со скрипом. Паульссен снова обратился к Элли спиной. Старческие пятна просвечивали сквозь волосы у него на голове, это тронуло Элли.
– Господин Паульссен, пожалуйста, подумайте хорошо. Это очень важно. К сожалению, я вынуждена вам сообщить, что госпожа Беннингхофф мертва.
Медленно, очень медленно он повернул к ней голову. Его рот открылся, словно черная дыра:
– Уходите. Мне нужно работать.
Из таинственного господина Паульссена больше ничего нельзя было вытянуть. Но могло ли так совпасть, что они с Розой оказались в одном городе? Должны же в этой седой голове остаться хоть какие-то обрывки воспоминаний. Картины, нарисованные красными красками, просто кричали со стен – это был личный маленький ад. Неужели человек мог действительно все забыть?
– Пожалуйста, господин Паульссен, вот моя визитка. Если вы что-то вспомните, сообщите нам.
Она вложила карточку в руку, на ощупь грубую, как газетная бумага. Элли едва не испугалась, что может пораниться. Выходя из комнаты, она услышала бульканье, словно старик задыхался, но, когда она обернулась, тот все еще сидел с открытым ртом, глядя на свою картину.
«Роза, которую срезали с ножки. Розочка, я имею в виду цветочек».
Элли остановилась у двери:
– Я приду снова, господин Паульссен.
Внутри Ханнеса нарастала дрожь, почти приятное ощущение. Ему было знакомо это чувство. Охотничий азарт. Три часа сна – это слишком мало, усталость уходила очень медленно, давая место невесомой эйфории, пока он стоял у видавшего виды рабочего стола. Побочным эффектом стало туннельное зрение, но, когда Ханнес фокусировался на Баптисте, с этим еще можно было жить.
Кошка внутри него подняла голову и заметила добычу.
Баптист развалился в своем чудовищном директорском кресле, как невоспитанный школьник. Мол, мой дом, мой кабинет, мои правила. Рядом с ним адвокат кое-как склеил то, что можно было назвать улыбкой, но Ханнес в любой момент ожидал услышать его рычание.
Кошка вздыбила шерсть.
Едва ли здесь можно было применять обычные правила допроса: завоевать доверие, наладить контакт. К этому человеку ничего не подходило.
– Господин Баптист, с этого момента я должен вам заявить, что мы больше не рассматриваем вас как свидетеля, мы считаем вас подозреваемым.
Баптист нагло улыбнулся и покачал головой. К делу подключился Ким:
– Мой клиент не имеет никакого отношения к убийству госпожи Беннингхофф.
Ханнес допустил к допросу адвоката. Возможно, это была ошибка. Но он надеялся, что это вселит в Баптиста обманчивую уверенность, заставит его вести себя опрометчиво. Кроме того, он не хотел терять времени на формальные прения. Сейчас был слишком важный момент.
Усы кошки задрожали.
– Подождите, пока я закончу следующее предложение, доктор Ким, – ответил Ханнес. – Мы ведь оба учились в университете, не так ли, коллега? Нужно всегда выяснять все обстоятельства дела.
Кошка переминается, по очереди приподнимая задние лапы.