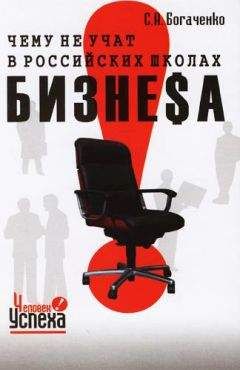Силвер Элизабет - Обреченная
Он покачал головой.
– Можно сказать, нет.
– Можно сказать? – переспросила я. – Или нет?
– Нет, – ответил Калеб. – А у тебя, куколка?
– Куколка? – рассмеялась я. – Я и не знала, что мы дошли до этого.
– А у тебя? – настойчиво повторил он.
– Не-а, – сказала я, заметив внезапную перемену его настроения. – Ничего особенного. Просто пара парней тут или там. Тут – полицейский офицер и парень в «Лоренцо», но только за бесплатную пиццу по вторникам. Может, если тебе повезет… – Я подмигнула. – …То как-нибудь я оставлю тебе кусочек.
– Теперь, думаю, мне надо чем-то поразить тебя.
– Яблочко от яблони недалеко падает, Калеб. Ты первым это сказал. – Я подняла бутылку, словно произнося тост. – Худшее, что ты сделал в жизни.
– Ты имеешь в виду, кроме того, что я тебя бросил?
– Хорошая подача, – улыбнулась я, наклонив голову, чтобы посмотреть на папин шрам. Я смотрела, как этот шрам подпрыгивает, когда он говорит, соединяя полушария его лица, словно замо`к. Казалось, он доволен своим последним ответом, и шрам продолжал дублировать его здоровую улыбку. – Вот этот шрам, – сказала я. – Когда ты его получил?
– Это займет больше пятнадцати секунд.
– Пятнадцать секунд. – Я взглянула на часы, ожидая, когда секундная стрелка встанет на двенадцать. – Давай!
– Правда? Ты будешь время считать?
– Четырнадцать.
– Блин, – рассмеялся отец, потирая шрам.
– Тринадцать, – сказала я, отслеживая время.
– Черт!
– Двенадцать.
– Черт, – воскликнул Калеб, – ладно!
– Одиннадцать. Десять.
– Ладно. – Папа поднял руку. – Ладно, я скажу. Итак: твоя мать. Я. Семьдесят седьмой год. Бритва. Ванная. Падение. Тадамм! – сказал он, ответив поклон.
– Я вернусь к этому.
– Худшее, что ты сделала? – спросил мой собеседник, меняя тему.
– Кроме встречи с тобой в феврале?
Отец подался вперед, поднимая тряпку, нарушавшую узор дешевого ковра у нас под ногами.
– Давай, куколка, отвечай.
– Арест, – решительно сказала я. – И возможно, то, что я бросила школу. – Я вздохнула. – Целых два. Прелестно.
Калеб крепче сжал тряпку. Из нее по его рукам потекли струйки грязной воды.
– Ты ведь знаешь, что мы с твоей матерью провели не только одну ночь, верно?
Я не могла оторвать взгляда от его рук. Они были стиснуты так, словно ему нужно было сделать себе больно. Или кому-то еще. Или мне.
– Раз ты так говоришь…
– Мы с твоей матерью жили вместе, – сказал отец, погружаясь в ностальгические воспоминания. Голос его охрип. – Не стоит верить всему, что она тебе рассказывает. Мы были молоды и влюблены. А что еще нужно?
– Не знаю, – отрезала я. – Может, еще работа или еда. Деньги. Средства предохранения.
Калеб снова потер шрам.
– Понимаешь, у меня было двенадцать швов после того случая в ванной. Несколько недель я почти не мог есть. Все приходилось пить через соломинку, есть суп и прочее дерьмо. Я даже целоваться не мог.
Мне было трудно удержаться от смеха, но до сегодняшнего дня я горжусь своей сдержанностью.
– Даже представить не могу, чтобы тебе захотелось целоваться после этого маленького шоу.
Мой отец расслабился и вытянул ноги, чтобы коснуться моих. Я поморщилась, когда он задел мою щиколотку, но, думаю, он этого не заметил. На его шраме высыпали капельки пота, и я представила его, одиноко сидящего в мокрой ванной, страдающего от боли, в то время как моя мамаша ушла от него… к Фельдшеру Номер Один? К Брюсу, спортсмену?
Я встала и подошла к последнему не протертому столу. Завсегдатаи лущили арахис в пролитое пиво, оставляя на столе сущие битумные ямы Ла Бреа[18], которые предстояло зарыть. Я посмотрела на них и начала кругами тереть их тряпкой, убирая липкие следы, но они не стирались.
Отец подошел ко мне.
– Вот, попробуй так, – предложил он, заметив, как я стискиваю тряпку. – Надо вытирать кругами. – Показал как. – Видишь?
– Ты прав, – сказала я, следя, как тряпка в его руках поглощает скорлупки арахиса, прилипшие к поверхности стола. Калеб продолжал тереть столешницу даже после того, как на ее поверхности не осталось ни пятнышка, водя тряпкой по стеклу и стирая остатки влаги. Тряпка в его руках была опорой, словно костыль. Мы промолчали как минимум еще минуту. Руки Калеба постоянно двигались по часовой стрелке, вверх и вниз, из стороны в сторону, вытирая столы словно в бессознательном песнопении – поверхности, которые он вытер уже раза три, протирались его руками с узловатыми пальцами и корявыми ладонями, покрытыми шрамами прошлого, которого я не знала. Каждая из этих отметин и распухших суставов привела его сюда, каждая из этих отметин привела его ко мне в «Бар-Подвал», в летнюю влажность, и в этот момент я поняла, что даже при том, что он рассказал мне о себе, при том, что он повторял мне свои истории каждую неделю с карикатурными приукрашиваниями, я так и не узнала на самом деле, откуда взялись все эти отметины. В результате какого-нибудь рейда через границу? С боксерского ринга в тюрьме? От моей мамы, которая, вероятно, пыталась заменить моего отца в течение следующих десяти лет различными усатыми любовниками? Если сам не видел, все остальное – лишь чистая перспектива.
В конце концов он осознал, что делает, и остановился, отложив тряпку в угол. Отер руки о джинсы, взял меня за руку и усадил меня на стул. Из правого его заднего кармана торчала полоска коричневой кожи, а в нее была завернута моя промокшая выпускная фотография. Наверное, моя мать прислала ему этот снимок после того, как он прислал ту самую открытку. «Если б он хотел быть отцом, он был бы им», – так она сказала. Затем Калеб достал старую фотографию, прилипшую к ее обратной стороне, и протянул ее мне.
– Это твоя бабушка. Моя мать. Ее звали Дороти, – сказал он. – Дот. Друзья называли ее Дот. – Он несколько раз набрал полную грудь воздуха и выдохнул, прежде чем заговорить. – Ей сейчас был бы семьдесят один год.
Я взяла фото двумя пальцами, стараясь не захватать его. На фото бабушка была одна. Она лежала на песке на пляже в купальнике в горошек, на губах ярко-алая помада, волосы повязаны белым шарфом. На фото ей не могло быть больше двадцати пяти, ну, может, в крайнем случае тридцать, и в своих очках она казалась сестрой Одри Хепберн, но не такой красивой. Не могу сказать, где был сделан снимок, но обстановка казалась ароматно-тропической.
– Помнишь, я говорил тебе, что именно из-за нее захотел найти тебя? – спросил отец.
– Что-то вроде, – кивнула я. – Ты сказал, что малость сбился с пути где-то на стадии подлеца-нелегала и обрюхатил мою мать.
Калеб стыдливо улыбнулся.
– Да. Правда, все было немного сложнее.
Я ощущала себя как маленькая девочка, когда родителям сообщают о ее болезни. Чем больше он пытался заговорить, тем быстрее распространялась зараза.
– Я связался с одними парнями в Цинциннати, которые задумали подломить банк, – через силу продолжил он. – Я просто был водилой. Я не входил в банк. Я ничего не сделал. Честно говоря, я едва знал этих парней. Но я согласился идти с ними, и нас взяли, и хотя я просто вел машину, меня упекли на пять лет. И мне пришлось отсидеть от звонка до звонка из-за моего послужного списка. Они знали обо всем, от Мэйси до Тихуаны, и на этой стадии попытка уйти на поруки была просто смешной. Мне оставалось отсидеть два месяца, когда моя мать заболела. По-настоящему заболела. Ко мне пришел надзиратель и лично передал это известие. Он протянул мне письмо и сказал: «Мне очень жаль».
– Она умерла? – нервно спросила я, протягивая отцу руку. Он не взял ее.
– Нет. Не тогда. – Калеб потер ее фото пальцами. – Она написала письмо, где спрашивала надзирателя, нельзя ли отпустить меня пораньше. Она знала, что умирает. И знала, где я. Она следила за мной от Кентукки до Огайо, повсюду. Она точно знала, где я, хотя выбросила меня из своей жизни несколько десятков лет назад.
– Мне так жаль, – сказала я.
Калеб поднял глаза и попытался благодарно улыбнуться, но у него получилась какая-то горестная маска в духе Пикассо.
– Она писала, что хочет, чтобы я вернулся домой в Филадельфию во что бы то ни стало. Умоляла надзирателя отпустить меня, но…
Я помотала головой.
– Он заявил, что это было бы нарушением процедуры, или попустительством, или чем там еще, – продолжал Калеб. – И поэтому я просидел в камере еще два месяца, зная, что моя мать готова поговорить со мной, где бы я ни был. Я просто сидел и думал. – Он рассмеялся, и пикассианская маска рассыпалась, как горстка булавок, брошенных на пол. – Я понимаю, что это было в целом бессмысленно. То есть я сидел в тюрьме. Я бывал в тюрьме и раньше, и действительно подолгу сидел, но я никогда там не думал, понимаешь? Там есть тренажерка, телевизор, работа… Я бы мог гораздо больше времени уделять мыслям о моей маме. Или о тебе, – добавил он, взглянув на меня. – Но я этого не делал.