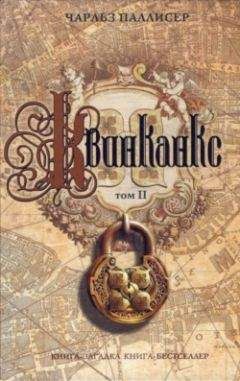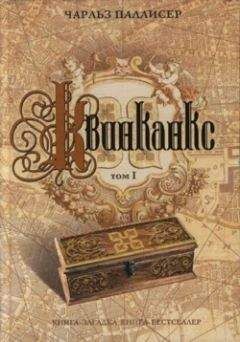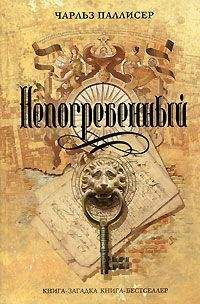Квинканкс. Том 1 - Паллисер Чарльз
Как ни странно, метод Гарри подействовал, я уже не боялся погружаться с головой и сделался таким искусником, что мы с ним начали соревноваться, кто быстрее проплывет под затвором. Но на следующее лето у Гарри не было времени на уроки, а матушка не пускала меня плавать одного, хотя, как я втайне думал, одному было бы безопасней, чем с таким наставником.
Я все глубже и глубже погружался в книги. Вдобавок к немалым домашним запасам, регулярно приходили все новые посылки от дяди Марти. Я прочел все имевшееся в библиотеке (а вернее, разбросанное по всему дому, потому что у нас не было помещения, которое бы служило именно библиотекой) и вскоре научился относить книги к нескольким вполне определенным категориям. Это были новые книги, присланные нам с матушкой из Лондона, романы приключенческие, романы бытовые, детские сказки и так далее. Наличествовали и тома куда более старые, изданные, самое меньшее, пять-шесть десятков лет назад и посвященные таким скучным предметам, как управление поместьем или сельское хозяйство, хотя попадались среди них и книги об истории, о путешествиях, а также учебник латыни. Я выделял их в особый раздел не только из-за их возраста, но и потому, что на них имелся очень простой экслибрис: всего лишь геральдический орел, а сверху инициалы «Д. Ф.». Их следовало отличать от другого раздела, книг преимущественно двадцати-тридцати лет давности, с удаленными, как мне показалось, экслибрисами. Все они трактовали вопросы юриспруденции, и я с досадой отложил их в сторону. И наконец, в немалом числе имелись детские книжки моей матери — хотя в этом я не был уверен, потому что они не были подписаны. Точнее говоря, у всех, за редкими исключениями, был отрезан край форзаца.
Освоив грамоту, я от корки до корки изучил «Тысячу и одну ночь» — сказки экзотические, но нередко грубые и непристойные, отчего матушка читала мне их не полностью. В особенности нравилась мне длинная история об изобретательном — однако, на мой вкус, нередко неразборчивом — юноше Ала-ад-Дине, который переживает одно за другим невероятные приключения, чтобы наконец поправить дела своей обедневшей матери. И еще я прочитал, на сей раз до самой развязки, историю Сайеда Наомуна, который последовал за своей женой на кладбище и обнаружил ее с женщиной-гулем.
Я подхватил привычку или усвоил способность (не знаю, как лучше это определить) теряться (или, напротив, находить себя?) в книге, полностью отрешаясь от окружающего мира. (Кстати, впоследствии этот навык неоднократно служил мне добрую службу.) Я глотал труды по философии, путешествиям, истории и литературе, не успев даже усвоить значение этих терминов и научиться их различать. Не берусь перечислять все странные закоулки, куда я забредал, перспективы, мелькавшие у меня перед глазами, повороты, которым я следовал через сумрак. Часто я сбивался с толку, но проблески чего-то громадного, глубокомысленного, загадочного поддерживали во мне интерес. Плутал в обширных велеречивых писаниях века прошлого (Великий Хан [1]) и в напряженных, суматошных пьесах и прозе века позапрошлого. Мне открывались — прежде всего у Шекспира — страсти, природа которых обычно бывала непонятна, но проявления завораживали. Я читал о прокаженных, как они в давние века бродили по Англии, звоня в колокольчик и выкрикивая: «Нечист! Нечист!», как прятали под капюшонами изуродованные лица; когда же они теряли последние силы, над ними читали заупокойную службу и запирали их в лепрозорий. Чтобы узнать, правдиво ли повествуют о Востоке мои любимые арабские сказки, я поглощал отчеты путешественников, читал о родах, приверженных тайному культу многоголовых богинь, о том, как его последователи душили по ночам случайно выбранных прохожих, принося их в жертву своим божествам, читал о ревнителях другого учения, находивших смерть под колесницей с их идолом. Читал о ненавидимой и презираемой индийской касте, члены которой появлялись на улице только по ночам и убирали нечистоты.
Матушка подолгу читала мне произведения сэра Вальтера Скотта, теперь же я самостоятельно принялся за его романы, в которых вымысел так искусно переплетен с историческими событиями, что их трудно отличить. Наверное, чтение исторических книг зародило во мне восторженный интерес к прошлому, к тому, откуда что взялось. Взрослые не помогали мне удовлетворить мое любопытство, только миссис Белфлауэр рассказывала о местных знатных родах, но ее повествования я не относил к разряду исторических, потому что она не указывала точного времени.
Мне все больше и больше хотелось узнать о прошлом. Откуда я происхожу? Где жила прежде моя мать? Расспросы она не любила, отвечала только, что росла в Лондоне. Усвоив, что наши предки не жили в этой деревне, я ничего так не желал, как обрести принадлежность, корни, раскрыть, что было до моего рождения.
Ключ я мог найти только в книгах. Я внимательнее изучил те, которые, видимо, принадлежали моей матери. Кое-где в углу форзаца мне попались буквы «М. X.», и, поскольку матушку звали Мэри, оставалось предположить, что это ее инициалы. Далее я обратился к книгам по правоведению, ранее отложенным в сторону, и заметил, что в них когда-то были вклеены экслибрисы, но потом все до единого кто-то вырвал. Однако, поскольку удалены они были неаккуратно, я, сопоставляя остатки, восстановил оригинал. Он был похож на щит со знакомым рисунком из пяти четырехлепестковых роз. Наверху стояли слова: «Ех libris Дж. X.», внизу — еще строчка, собрав которую по буковке я прочитал: Tuta rosa coram spinis. Все это было очень загадочно, однако приближалось уже время, когда матушка обещала удовлетворить мое любопытство, поэтому я приготовился терпеливо ждать Рождества.
Я предполагал, что слова эти латинские. Матушка не бралась учить меня этому языку, но я познакомился с ним на воскресных службах в церкви. В одно из воскресений произошло нечто, о чем я должен сейчас рассказать.
Была осень, мы отправились в церковь; матушка надела лучшую шляпку, желтое шелковое платье и набросила сверху мериносовый плащ; я был в высоких сапогах с отворотами, в синем сюртуке, светло-желтой жилетке, белом галстуке и кремовых штанах; как бывает осенью, к ощущению полноты жизни добавлялось зревшее в воздухе предчувствие непогоды. На деревьях лопались каштаны; мимо прошло несколько молодых людей с корзинками лещины и буковых орехов, которые они с утра пораньше собрали в лесу, чтобы, по деревенскому обычаю, преподнести своим возлюбленным. На трубах и соломенных крышах собирались ласточки, готовясь лететь в теплые края.
Как всегда, мы явились в церковь едва ли не первыми и проскользнули на нашу тесную скамью (сидели мы далеко позади и за колонной). Под визг и щебет настраиваемых инструментов церковного оркестра — кларнетов, труб, тромбонов, фаготов, валторн, скрипок и контрабасов — я наблюдал за мистером Эмерисом, который, с величавым достоинством сжимая свой жезл, сопровождал приходских почетных лиц через толпу деревенских жителей (они уже успели заполнить церковь и теперь почтительно расступались) к их скамьям в первом ряду. Эти скамьи, откуда был хорошо виден алтарь, принадлежали их родам как неотчуждаемая собственность, и я, с тех пор как стал интересоваться геральдикой, очень злился, что мы не владеем одной из них.
Наконец на трехэтажную кафедру взошел священник, Доктор Медоукрофт. Клерк Эдваусон, внизу у аналоя, возгласил номер первого гимна, и служба началась. Пока оркестр с хрипеньем и свистом наяривал Утренний гимн, я, как обычно, следил за многоцветными тенями, перерезавшими пыльные лучи, которые шли от витражей.
От гимнов у меня сводило скулы, потому что их язык был скучен. Но я наслаждался словами и фразами Книги общей молитвы и псалмов, прежде всего названиями грехов, которые звучали настолько театрально, что я никак не мог бы отнести их к себе: мстительность, жестокосердие, идолопоклонство, алчность, суета и непотребство. Многих из них я не понимал и позднее, обнаружив, что обозначаемые ими понятия уже мне известны, был разочарован. Но с особым нетерпением я ожидал проповеди, не потому, правда, что меня хоть сколько-нибудь интересовало ее содержание. (Постепенно я понял, что священник заготовил набор проповедей, которые повторяет каждые два года, скромно полагая, что на такой длительный срок они в памяти слушателей не удержатся.) Во время проповеди я мог на досуге разглядывать мемориальные плиты из бледного мрамора, украшавшие стены по соседству, разгадывать смысл латинских надписей и задаваться вопросом, что сталось ныне с семействами, которые бахвалились древностью своего рода и заслугами предков. Их имена не встречались мне нигде, кроме как в названиях соседних деревень: Деспенсер, Деламейтер, Момпессон, Торкард, Сатчвилл и Лейси, а также в топонимах наподобие Хэмптон-Торкард, Стоук-Момпессон, Сент-Джонс-Лейси и прочие.