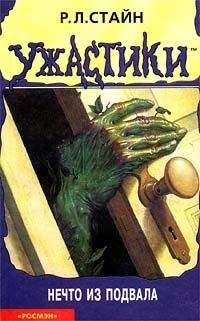Роберт Уилсон - Севильский слепец
Как Консуэло Хименес назвала его и Инес? Правдоискателями. Он пустился в это страшное путешествие с единственной целью — раскрыть истину. Неужели он теперь отступит? Неужели остановится в единственном конце Calle Negation? А что потом? Он будет жить так, словно ничего этого не случилось, и Хавьер Фалькон бесследно исчезнет.
Он принес холсты наверх, в мастерскую, и совместил с соответствующими снимками, но не мог определить принцип нумерации. На обратной стороне холстов не было никаких цифр, а только буквы «I» и «D». Фалькон почувствовал беспредельную усталость и непреодолимое желание забраться в постель. Тут он разглядел на самом краю снимков какие-то чернильные пометки, и понял, что отец пронумеровал полотна с лицевой стороны, там, где холст загибается на подрамник. По частичкам цифр Фалькон восстановил нужный порядок. Потом он сообразил, что буквы «I» и «D» означают «izquierda»[124] и «derecha».[125] Он разметил снимки и обрезал листы формата А-3 строго по границам изображения. Затем перевернул их и, расположив соответственно схеме, скрепил. Не глядя, Фалькон приклеил скотчем то, что у него получилось, к стене и отошел на несколько шагов. Он уже собрался повернуться, как вдруг его прошиб пот — знакомая струйка защекотала щеку.
У него оставался последний шанс — уйти.
Он зажмурился и встал лицом к картине.
Помешкав секунду, Фалькон открыл глаза и увидел творение своего отца.
31
Воскресенье, 29 апреля 2001 года,
мастерская Эль Сурдо, улица Паррас, Севилья
Фалькон развешивал на стене снимки, а Эль Сурдо тем временем забивал косяк. Хавьер похлопал его по плечу как раз в тот момент, когда он делал первую затяжку. Эль Сурдо обернулся.
— Joder! — выдохнул он. — Кто это?
— Это? — переспросил Фалькон. — Она. Она — моя мать.
— Joder! — повторил Эль Сурдо, подходя поближе. — Это же верх мастерства.
— Это не верх мастерства, — отрезал Фалькон, — а верх неприличия.
— Ну, меня-то это лично не затрагивает, — заявил Эль Сурдо. — Я вижу в этом просто…
— Неужели произведение искусства? — с недоверием спросил Хавьер.
— С точки зрения техники. Я имею в виду, это же грандиозно… создать пять связанных между собой фрагментов, которые на первый взгляд не имеют ничего общего и лишены всяческого смысла… Я не заметил никаких переходящих линий, как, например, в пазле, но когда все соединилось…
— …стало очевидно, что это самое мерзкое выражение ненависти мужчины к его жене и матери его детей, какое только способен измыслить разум чудовища, — сказал Хавьер.
Мужчины в молчании стояли перед жуткой картиной, изображавшей совокупление женщины с двумя алчными сатирами: один вжимался в нее сзади, а плоть другого распирала ей рот. Но это не было насилие. Единственный видимый глаз женщины горел страстью. Тошнотворнейшее зрелище! Хавьер шагнул к стене, сорвал с нее картину, смял ее в ком и швырнул в пустой угол.
— Что могло его побудить?..
— Затянитесь разочек, — сказал Эль Сурдо, предлагая Хавьеру косяк.
— Я не привык к таким затяжкам.
— Это вас успокоит.
— Я не хочу успокаиваться.
— Послушайте… возможно, он узнал, что у нее роман.
— Я вас умоляю! — воскликнул Хавьер. — Может, он сам был без греха? Может, он никогда не трахал юнцов?
— Тогда на женщин смотрели по-другому, — сказал Эль Сурдо.
— Может, он не провел в гнусных игрищах свою первую брачную ночь? Может, он не завел любовницу, на которой потом женился, еще до того, как умерла его первая жена?
— Ваш отец не выносил женщин, — сказал Эль Сурдо спокойно.
— Что-что?.. — изумился Хавьер. — Я не понял, что?..
— Я сказал, что он не выносил женщин.
— Что вы имеете в виду, Эль Сурдо?
— Только то, что говорю… И это было не обычное для того времени презрение к слабому полу, а настоящая ненависть.
— Но отец же был два раза женат, создал четыре самых прекрасных женских «ню», какие когда-либо видел мир, и вы при всем том думаете, что он ненавидел женщин? — спросил Хавьер.
— Я ничего не думаю, — буркнул Эль Сурдо. — Он сам мне сказал.
— Он вам сказал? Почему это он вдруг с вами так разоткровенничался?
— Потому что у нас были определенные отношения.
Фалькон плюхнулся в потрепанное кресло. Силы покинули его. Он почувствовал, что у него отвисла челюсть, а руки как будто отнялись.
— С каких пор? — спросил он тихо.
— С семьдесят второго года, и продолжалось это лет одиннадцать или двенадцать — в общем, пока его не испугал СПИД.
— То есть… в то время, когда я был здесь, с ним?..
Эль Сурдо кивнул.
— Какая горькая ирония, — заметил Фалькон.
— То, что у него получились чудесные «ню»? — спросил Эль Сурдо. — Это была его работа. Она никак не соприкасалась с жизнью.
— Откуда она взялась… эта ненависть? — в раздумье произнес Хавьер. — Не понимаю, что ее спровоцировало?
— Его мать.
В голове у Фалькона что-то затикало, как метроном, отсчитывающий секунды до того момента, как он окончательно сойдет с ума.
— В своих дневниках отец упоминает о каком-то таинственном «инциденте», — сказал Фалькон, — о чем-то таком, что заставило его уйти из дома и вступить в Легион. Вам он случайно ничего про это не говорил?
— Говорил, — ответил Эль Сурдо, — могу и вам рассказать, если хотите.
— Расскажите.
— Что вам известно о его родителях?
— Почти ничего.
— Так вот, в двадцатые и тридцатые годы они держали гостиницу. Его мать была ярой католичкой, а отец — пьяницей, вымещавшим свои неудачи на детях и наемных работниках. Так вот, однажды утром отец застал Франсиско в постели с одним из мальчишек-коридорных. Он пришел в неописуемую ярость и на глазах у сына забил коридорного до смерти. Когда у него прошел приступ бешенства, он понял, что натворил. Отец и сын вдвоем как-то избавились от тела, и Франсиско не выпускали из комнаты, пока тот не отмыл всю кровь и не побелил заново стены.
Эль Сурдо развел руками.
— А что его мать? — спросил Фалькон. — Вы сказали…
— Она отвернулась от сына, вела себя так, будто его вообще не существует, даже не оставляла ему места за обеденным столом. По ее узким католическим меркам его грех не заслуживал прощения.
— И когда же он рассказал вам об этом?
— Давно, больше двадцати лет назад.
— Когда вы сблизились?
— Да. После того «инцидента» ему потребовалось какое-то время, чтобы снова вернуться к мужикам. Только в Танжере, после Второй мировой войны… хотя он, правда, питал некую склонность к своему другу-легионеру, которого убили в России… Паблито его звали… Но из этого ничего не вышло, а беднягу Паблито в итоге предала женщина…
— Он упоминает о нем в дневниках. Мой отец участвовал в расстреле этой женщины, — сказал Фалькон. — Он специально целился ей в рот.
— А знаете, почему наша с ним связь оказалась такой прочной? — спросил Эль Сурдо. — Потому что я никогда не пытался влезть ему в душу. Некоторые люди этого не терпят, и твой отец был из их числа. Женщины, наоборот, жаждут узнать своего мужчину, и когда они понимают, кто ты есть на самом деле и что такой ты им не нужен, они делают одно из двух: либо стараются тебя переделать, либо бросают. Это слова твоего отца, не мои. Я никогда не валандался с женщинами.
Они пошли пообедать в бар «Ла-Кубиста». Хавьер заказал тунца, Эль Сурдо — свинину. Он принялся за вино, посоветовав глухо молчавшему Хавьеру последовать его примеру. Принесли заказанные ими блюда.
— Ваш отец любил меня еще по одной причине, — сказал Эль Сурдо. — Как ни странно, он восхищался тем, что я копировщик. Правда, чудно? Еще его забавляло, что я рисую вверх ногами. Он видел в этом неуважение к оригиналу, хотя я ему и втолковывал, что делаю так исключительно для того, чтобы меня не отвлекала композиция картины, поскольку моя единственная задача — скопировать ее как можно точнее. Представляете, он считал, что некоторые мои копии лучше его оригиналов. У двух американских коллекционеров на стенах висят мои копии, подписанные вашим отцом. Это, как он заявил, и есть искусство. Оригинального не существует.
Фалькон глотнул вина, взял нож и вилку и приступил к еде.
— Когда вы в последний раз видели его? — спросил Фалькон.
— Примерно пять лет назад. Мы обедали здесь вместе. Он был счастлив, потому что нашел наконец средство избавиться от одиночества.
— Он разве был одинок?
— Постоянно. Всегда. Знаменитый человек в своем огромном мрачном доме.
— Но у него же были друзья, так ведь?
— Он говорил, что не было. Своего единственного друга он потерял давно, еще в семьдесят пятом.