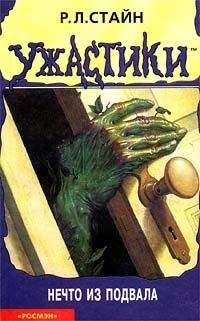Роберт Уилсон - Севильский слепец
— Его картины?
— Я не спрашивал.
Эль Сурдо еще немного подымил, пока Фалькон доедал баранину.
— Вам интересно узнать, что там было прежде? — спросил Эль Сурдо.
— Не отказался бы.
— Звучит не слишком уверенно.
— Иной раз кажется, что хочешь узнать, а потом и сам не рад, что узнал.
Они поймали такси и поехали на улицу Лараньи в Институт изящных искусств. Пройдя по внутреннему дворику, поднялись на второй этаж. За 15 ООО песет приятель Эль Сурдо пропустил холсты через сканирующее устройство и выдал им пять снимков первоначальных изображений. Там было что-то невразумительное: хаотичная перекрестная штриховка, путаница жирных, черных на белом, извилин и отдельные четкие детали — глаз, нога, копыто, звериный хвост.
Эль Сурдо ничего не понял. Они расстались на ступенях института. Копировщик сказал Фалькону, что всегда будет рад встретиться с ним в обеденное время в том же баре. Хавьер отправился домой. Он свалил в кучу холсты и снимки, позвонил Алисии и договорился о встрече этим вечером.
— Меня освободили от руководства группой, — сообщил он Алисии, как только она взялась за его запястье. — Через десять дней я должен буду пройти психиатрическое освидетельствование.
— Ну что ж, меня это не удивляет, — заметила она. — Вы наверняка начали вести себя странно.
— Это из-за Инес и судебного следователя. Она решила, что я гоняюсь за ней, а я просто сталкивался с ней на улице, как с материализовавшейся мыслью.
— Вы уже рассказывали мне об этом.
— Разве? — удивился он. — Да, для психопата и несколько дней превращаются в вечность. Я как бы заново переживаю свою прошлую жизнь, пока не натыкаюсь на глухую стену беспамятства, в которую стучусь до полного изнеможения, потом возвращаюсь назад и снова проживаю тот же отрезок жизни — и снова упираюсь в ту же стену. Это изматывает и превращает время между двумя событиями повседневной жизни в период древней истории. Я уже говорил вам, что ездил в Танжер?
— Еще нет, — сказала она. — Почему вы решили побывать там?
— Мне дали отпуск по семейным обстоятельствам.
Он рассказал ей о гибели Пепе Леаля.
— Что вы надеялись отыскать в Танжере… спустя сорок лет?
— Ответы. В странах третьего мира жизнь идет совсем другими темпами. Я думал, что сумею найти людей, которые помнят прошлое лучше меня, и это, возможно, разбудит мою память.
— Но почему Танжер? Вы потеряли работу из-за Инес. Почему бы вам не решить этот вопрос? Что же все-таки подтолкнуло вас?
— Меня просто потянуло в Танжер. Я не принимал никаких сознательных решений, я пошел туда, куда повела меня судьба. Я положился на случай… и он привел меня к двери моего старого дома в медине.
— И вы не принимали никаких решений?
— Никаких.
— Напомните мне, как впервые проявилась ваша ненормальность?
— Я почувствовал перемену в себе, когда увидел лицо первой жертвы.
— И какое же событие — вне вашего расследования — навело вас на мысль, что эта перемена не является следствием испытанного вами тогда шока?
Долгое молчание.
— Я поехал в центр, чтобы забрать телефонную книгу убитого, и случайно оказался свидетелем пасхального шествия. Увидев Деву Марию, я, сам не знаю почему, чуть не потерял сознание. Это было состояние аффекта.
— Вы человек религиозный?
— Совершенно нет.
— И что было потом?
— Я узнал отца на одной из старых фотографий и понял, что у него была интрижка еще при жизни матери.
— А в вашей жизни?
— Я нашел дневники отца и его письмо… с этого все и началось… я хочу сказать, это всколыхнуло… какую-то тьму. В ту ночь я вел себя очень странно, даже подумал, что во мне самом сидит какая-то злая сила. Прежде я такого за собой не замечал. Всегда был неукоснительно порядочным. Культивировал в себе порядочность.
— А теперь вами руководит страх?
— Да.
— Страх чего?
— Той ночью произошло еще кое-что, — сказал Фалькон. — Я пытался найти проститутку, с которой убитый был в ночь гибели. Она исчезла. Убийца тогда впервые позвонил мне и спросил: «Мы близки?», а потом сам же ответил: «Ближе, чем вы думаете», как будто ему что-то обо мне известно, и, как я теперь понимаю, действительно известно.
— А что, по-вашему, ему о вас известно?
— Сначала я подумал, что он намекает на то, что следует за мной по пятам. Но потом мне пришло в голову, что… наверное… он видит между нами какое-то сходство, — продолжал Фалькон, запинаясь. — Я уже догадывался, что девушка убита, и чувствовал себя виноватым.
— Виноватым?
— Мы подозревали, что есть какая-то связь между убийцей и девушкой, но мы ее не отследили. Надо было действовать оперативней… Мы прохлопали…
— Вы не прохлопали, — заметила Алисия. — Ведь она же ничего вам не сказала. Она защищала его по каким-то своим соображениям.
— Но меня все равно мучило чувство вины.
— Но из-за чего?
Долгое молчание.
— В ту ночь я встретил еще одну процессию… ордена молчальников, или кающихся. Понимаете… она была исключительно прекрасна… Дева Мария. Странно, что одетый в платье манекен способен был до такой степени меня… взволновать. Я не смог этого вынести. Величия того, что она собой олицетворяет. Мне необходимо было миновать ее, убежать прочь.
— И все потому, что вы не сумели спасти девушку?
— Вот именно. Не уберег.
— Вы ведь знаете, кто такая Дева Мария?
— Да.
— И вам известно, что она олицетворяет?
Фалькон кивнул.
— Скажите.
— Это символ матери, — сказал он.
— Символ Матери, — повторила она с ударением. — Объясните мне, зачем вы поехали в Танжер?
— Я хотел выяснить, как… Я хотел выяснить, что произошло, когда она умерла.
— Ну и как, выяснили?
— Частично. Мне наконец рассказали, что тогда случилось на улице. Мне мерещилось что-то зловещее, а оказалось, ничего особенного — просто горничная-берберка устроила спектакль. У арабских женщин это заведено. Вы, вероятно…
— Вы сами себе не верите, правда, Хавьер? Вас это зацепило.
— Я так не думаю.
Алисия медленно выдохнула. Они снова уткнулись в кирпичную стену.
— А что еще вы узнали в Танжере?
— Какие-то глупые сплетни о том, как погибла моя вторая мать.
— Ваша вторая мать?
— Я не собираюсь повторять эту ахинею.
— А о чем-нибудь вы говорить собираетесь? — резко спросила Алисия.
— У меня какая-то необъяснимая боязнь молока, — объявил Фалькон и рассказал про случай в Тетуане и про свой сон.
— Что значит для вас молоко?
— Ничего.
— Значит, ваш сон был ни о чем?
— Я имел в виду, что оно ничего для меня не значит, просто я всегда ненавидел молочные продукты… как и мой отец.
— А чем матери вскармливают своих детей?
— Мне надо идти, — сказал он вдруг. — Время вышло. Вам надо быть со мной построже.
Они направились к двери. Фалькон, не взглянув на нее, вышел на лестничную площадку, не стал включать свет и зашагал вниз, к выходу.
— Вы еще придете ко мне, Хавьер? — крикнула ему вслед Алисия.
Он не ответил.
Фалькон сидел в кабинете за письменным столом и так и сяк перекладывал черно-белые снимки спрятанных под копиями рисунков. Он пришпилил снимки к стене и посмотрел на них с расстояния. Полный бред. Он поменял листки местами, решив, что все дело в их расположении, но вскоре понял, что комбинаций может быть множество.
Дверь дребезжала под напором носившегося по дворику ветра. Фалькон вышел, сел на бортик фонтана и принялся стучать носком башмака по истертым мраморным плиткам пола. Их прямоугольнички напомнили ему о схемке, вылетевшей из свитка холстов.
Он со всех ног кинулся в мастерскую. Схемка нашлась на полу между коробками. На ней были начерчены в ряд пять смыкающихся прямоугольников с номерами. Фалькон сбежал вниз по лестнице, подгоняемый идеей, что это, возможно, и есть ключ к разгадке всей тайны. Но какой? Он замер посреди дворика.
Устоявшиеся представления… Мысль об их крушении пришла к нему в зрительных образах блокбастера на библейский сюжет: опрокидывающиеся статуи, летящие вниз замковые камни, обрушивающиеся своды, рассыпающиеся на огромные зубчатые фрагменты колонны. Его представление об отце и так уже изменилось — неистовый легионер, опустошенный ветеран русского фронта, контрабандист-убийца и, под конец, терпящий невыносимые муки художник. Но все это поддавалось хоть какому-то объяснению. Тут дело было не в натуре отца, а во влиянии на нее самого жестокого во всей истории века. Зверская и кровопролитная гражданская война, катастрофическая Вторая мировая война, остаточная жестокость, постепенно превратившаяся в гедонизм в послевоенном Танжере. Ну да, оказался слаб! Но сейчас речь могла идти об открытии совсем иного рода, о разоблачении чего-то глубоко личного, некоего жуткого порока, который не оставит сомнений в том, что он сын монстра. Хочется ли ему этого?