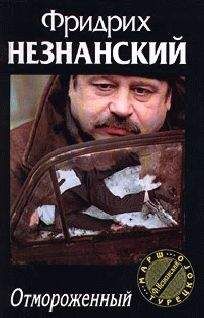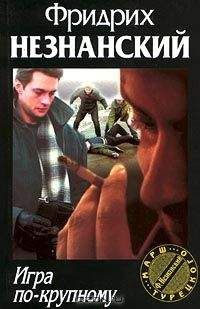Фридрих Незнанский - Опасное хобби
— Называется, что я тебя люблю.
— Нет, это называется моральное разложение. И за это меня надо немедленно гнать в три шеи из органов славной прокуратуры.
— Батюшки! — фыркнула она. — Скажите какие дела! — И хитро поглядела на него снизу вверх. — А за то, чем мы занимались до сих пор — не надо? Они не будут на тебя в претензии?
— Знаешь, — засмеялся Турецкий, — сам нахал, о Грязнове и говорить не приходится, но чтоб до такой степени!
— Чем вам Грязнов мешает? — спросил Слава. — Вот высажу, пешком пойдете…
Саша уезжал вторым поездом, «Красной стрелой». Карина погрустнела, и это было понятно, так бы поступил всякий, кого не взяли в путешествие, которое при желании можно было бы назвать как угодно. Турецкий уже сомневался, правильно ли сделал, что отказал ей, да еще не в самой лучшей форме, хоть и шутливой. А девушка целенаправленно и очень четко ведет свою линию. А где же моя-то линия? Ну почему я иногда бываю таким слабовольным дураком?..
Объявили пятиминутную готовность. Карина достала из сумочки фляжку Смирновской водки и протянула Турецкому.
— На, когда откроешь, вспомни меня. А я сейчас поеду к ним и напьюсь с горя.
— Крепись, Кариша, — изобразив мужественного героя и победоносно оглядев окрестности, изрек Турецкий. — Нам предстоят большие испытания, и еще ни одна живая душа не знает, к чему мы все придем в конечном счете.
— Молодец! — заявила Нина. — Грязнов, ну почему ты так не умеешь?
Тот лишь пожал плечами, а потом, взглянув на свои часы, сказал:
— Все. Через пять минут будет ровно неделя, как началось это наше препохабное дело.
Поезд тронулся. Турецкий, стремительно обняв всех сразу и каждого отдельно, чмокнул Карину в нос и прыгнул в тамбур. Три вскинутые руки отсалютовали его отъезду. Радио играло какой-то весьма хриплый марш. Кончалась среда, 19 июля 1995 года.
52
Санкт-Петербург
Директор Государственного Эрмитажа находился в длительной зарубежной командировке на Восточном побережье Соединенных Штатов, и ожидали его не ранее чем через две недели. Поэтому Турецкого принимало другое ответственное лицо. Это была, вероятно, красивая в прошлом, но теперь несколько погрузневшая, крупная дама с ухоженным телом, которым она несомненно гордилась. Разговаривая с московским следователем, да еще старшим, да еще по особо важным делам, она, видимо привычно, кокетничая, подавала то пышной, не растратившей силы грудью, то покачивала мощным упругим бедром, то поводила далеко не лебединой шеей, словом, всячески старалась «произвести достойное впечатление». Узнав о цели командировки, немного пригасла, хотя и пообещала возможную помощь в расследовании столь серьезного дела. Одновременно поинтересовалась, где остановился московский гость, а узнав, что он прямо с поезда, немедленно предложила свою помощь в устройстве. Она могла бы позвонить куда надо, чай, Эрмитаж еще пользуется в северной столице некоторыми привилегиями. И вскоре Турецкий убедился, что занимается она в музее никак не искусствоведческими проблемами, а исключительно приемами зарубежных делегаций и обеспечением их всем необходимым для приятного времяпрепровождения. Ее круглое и полное лицо с заметно пробивающимися над верхней губой усиками выражало ее исключительное внимание к собеседнику, а пухлые пальцы в перстнях машинально поправляли на коленях длинное платье с разрезами до середины бедра, невзначай открывая Турецкому призывно сверкающие круглые колени. «Да, — усмехнулся про себя Турецкий, — всякая Божья тварь любви хочет…» Однако пора было с этим кончать, точнее начинать работу, а представление заканчивать.
Турецкий сказал, что его интересуют в первую очередь те сотрудники музея, которые в послевоенные годы занимались фондами. Вероника Моисеевна, которая и в самом деле отвечала за связи со средствами массовой информации, тут совсем скисла. Из чего Турецкий сделал вывод, что лицо она в музее, мягко выражаясь, случайное. Но, может, кому-то она действительно тут нужна. Не станем вдаваться в тонкости. С горем пополам — того нет на месте, этот в отпуске, а та на совещании в Москве — ему удалось наконец выяснить, с кем конкретно можно иметь дело.
Иван Иванович Перфильев, пожалуй, на сегодня старейший работник Эрмитажа, был единственным, кто помнил служивших здесь в прежние годы, отлично разбирался в западном искусстве, поскольку возглавлял отдел западно-европейского искусства девятнадцатого века. Узкой его специализацией были импрессионизм и постимпрессионизм, французская живопись конца прошлого— начала нашего века.
Вероника Моисеевна тут же снабдила Турецкого грудой всевозможных буклетов — ярких и праздничных, почти торжественно преподнесла в подарок — явно из представительского фонда— прекрасно исполненную и напечатанную в Финляндии книгу об Эрмитаже, в составлении и выпуске которой сама принимала активное участие, о чем написано… вот, на обороте титула, как изволите видеть, директор, совет, а вот и ее фамилия. Турецкий оказался на высоте.
— Ну, поскольку мне выпала честь знакомства с вами, тогда позвольте уж дойти до конца и попросить у вас автограф.
— О! — словно вернулась к ней юность, так расцвела она. — С огромным удовольствием! — И тут же, на обороте титула, под списком фамилий, написала отчетливым круглым почерком, как писали в школах отличницы во времена Турецкого: «Многоуважаемому Александру Борисовичу Турецкому— от Вероники Самсоновой», и дата — «20 июля, Эрмитаж».
Турецкий прижал левую руку к сердцу, правой принял дар и почтительно поцеловал сильно пахнущую духами ручку дарительницы. Провожая его по коридору в кабинет Перфильева, Самсонова мягко и доверительно взяла гостя под локоть и, сверкнув глазками-вишенками, сказала:
— Еще увидимся…
«Кто же в этом сомневается!» — ответил ей взгляд Турецкого.
Иван Иванович показался с первого взгляда человеком желчным и некоммуникабельным. Увидев Веронику Моисеевну с незнакомым молодым человеком, он, не отрываясь от стола, на котором были горой навалены раскрытые книги и рукописные листы, лишь фыркнул что-то неразборчивое в седую щеточку усов. Не обращая внимания на его явно негостеприимное поведение, Самсонова живо представила гостя и удалилась, многообещающе кивнув Турецкому.
— Уже успела?.. — пробурчал Перфильев, не поднимая глаз, и добавил: — Садитесь, если найдете…
Найти стул было тоже нелегко, поскольку их было всего два — и оба завалены книгами. Книги и альбомы занимали все стеллажи, опоясывающие эту маленькую полутемную комнату — не в пример светлому и солнечному кабинету Самсоновой.
Оглядевшись, Турецкий остался стоять. Перфильев поднял к нему наконец глаза, остро посмотрел и поднялся. Он был высок и худ. Сильно сутулился, и пиджак висел на нем словно на вешалке. Сняв груду книг со стула, он перенес их и чудом втиснул на широкий подоконник, и без того забитый томами.
— Садитесь, — не очень гостеприимно предложил он. — Чем обязан?
Турецкий счел за лучшее показать свое удостоверение, а затем служебную командировку. Старик прочитал, вернул и хмуро уставился на него, ожидая продолжения.
— Простите, я вас не понял… Вы сказали: уже успела. Это ко мне относится? — спросил Турецкий.
Перфильев лишь махнул сухой ладонью.
— К этой… Увидел ее изделие, — он показал пальцем на книгу, которую Турецкий держал под мышкой.
— А вам не нравится? Извините, я не очень разбираюсь, но, по-моему, издано просто прекрасно, не так?
— Я этой… хм, написал весь раздел западно-европейской живописи, так не только спасибо не сказала, даже фамилии нигде не упомянула… Авторша…
— Понятно, — улыбнулся Турецкий. — Но давайте оставим этот вопрос и займемся тем, ради чего меня командировал к вам генеральный прокурор.
Последнее не произвело на Ивана Ивановича никакого впечатления, но он стал внимательным и серьезным.
Турецкий, вдаваясь в подробности, рассказал о найденной у одного покойного коллекционера папочке с рисунками великих мастеров Возрождения, перечислил их поименно, не заглядывая в свой список, будто общение с искусством — дело для него обычное, а затем достал из сумки собственно папку и протянул Перфильеву.
Тот открыл ее, как показалось, с некоторым трепетом, но глаза его сейчас же выразили полнейшее разочарование.
— А… где?
— Вы хотели, чтоб я вот так, в сумке, привез вам поездом десяток шедевров? — «не понял» его Турецкий. — Вы на папочку взгляните. А вдруг что-то вспомните и, если сможете, объясните, каким образом она уплыла из ваших фондов. Давайте начнем с самого простого. Список и прочую атрибутику я вам представляю, прошу, — и протянул листок бумаги, подготовленный еще в Москве.
Долго рассматривал список и пустую папку Перфильев. Откладывал в сторону и отворачивался к окну, снова брал в руки и все качал и качал головой, будто беседовал сам с собой и никак не мог прийти к согласию. Потом похлопал по карманам.