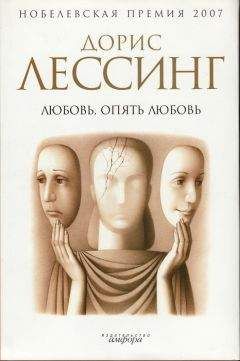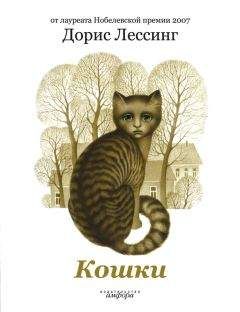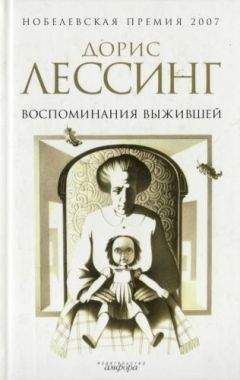Аркадий Васильев - В час дня, Ваше превосходительство
— Идемте, Федор Иванович. Тем более что к господину Орлову скоро пожалует супруга. Алексей Иванович не видел жену много лет.
Трухин никак не мог попасть рукой в рукав.
— Сочувствую… Я тоже мою законную не видел много лет. Надоели здешние вертихвостки. Это очень приятно… После долгой разлуки.
И Трухин неожиданно запел:
— «Сперва неловко как-то было и не хватало нужных фраз…»
Астафьев напялил на него мундир, бесцеремонно потянул к двери.
— Ауф видерзейн, господин Орлов… Пошли, Федор Иванович, пошли…
Вошла Кира. Видимо, сначала она даже не поняла, куда она попала, — с удивлением посмотрела на власовцев.
Орлов помог довести Трухина до двери.
— До свидания, Федор Иванович.
— Подожди, Алексей Иванович, я должен представиться… честь имею. Трухин Федор… Гимназист… Пардон, фрау… Совет да любовь. — И запел: — «Потом она сказала мило…»
— Я сейчас, Кира, сейчас… Только провожу. Наконец-то захлопнулась дверь за гостями. «Это не номер, а камера для наблюдения».
— Алеша, как ты мог!
— Я тебе потом все объясню… Ты должна понять. «Господи, как ей рассказать?»
— Алеша, как ты мог?
— Подожди, я оденусь!..
Орлов схватил немецкий мундир. Кира увидела мундир, стала как мел.
— Как ты мог? «Как ей объяснить? Как?»
Резко распахнулась дверь. Вошла Козихина. Игриво улыбнулась, стрельнула глазами.
— Просили добавить, ваше благородие…
— Кира, подожди!
Кира крикнула от двери:
— Живи в этой мерзости!.. Живи… Живи…
Орлов бросился за ней, кинул на ходу Козихиной:
— Принесла вас нелегкая!
Старик портье стоял к лифту спиной, выписывал счета. Он не видел, как чтото большое пролетело за сетчатой шахтой. Он только услышал странный мягкий стук.
Потом донесся крик, страшный, леденящий душу крик:
— Варя! Варенька!..
По лестнице бежала хорошенькая официантка из острабочих, в кружевном переднике, с наколкой. Ее обогнал офицер.
Портье заковылял на костылях, заглянул за лифт — офицер стоял на коленях перед мертвым искалеченным телом.
Официантка сидела на ступеньках, плакала. Погас свет. Начался воздушный налет. Кто-то кричал у подъезда:
— Ахтунг! Ахтунг!..
Из воспоминаний Андрея Михайловича Мартынова
Самое деятельное участие в похоронах Киры принял Жиленков. Он помог раздобыть хороший гроб и цветов, а это в Берлине летом 1944 года сделать было нелегко.
Перед выносом тела из морга приехали Власов и Трухин.
— Я понимаю твое горе, Алексей Иванович, — сказал Власов. — Но ты не падай духом. Для тебя самое главное сейчас работа, она поможет тебе преодолеть несчастье.
Он говорил долго, ему, видно, нравилось изображать себя заботливым, внимательным «отцом-командиром», тем более что около крутились корреспонденты из «Добровольца».
Трухин, трезвый, опрятно одетый, равнодушный, откровенно скучал — ему не терпелось поскорее дожить до обеда, когда можно будет опрокинуть в себя умиротворяющую душу жидкость.
Он не выдержал, перебил Власова, запутавшегося в своей длинной речи:
— Андрей Андреевич, вы не забыли, что у вас совещание?
— Помню, помню, — спохватился Власов. — Не отчаивайтесь, голубчик, — явно подражая кому-то, произнес он на прощанье и обратился ко мне: — Павел Михайлович, проследите, чтобы все сделали в наилучшем виде.
Трухин, подав мне руку, с усмешкой сказал:
— Вы уж постарайтесь, голубчик, чтобы все в наилучшем.
Мы ехали на грузовике — Астафьев со своей подружкой, похожей на мальчика, — она всю дорогу тихонько плакала, — два солдата из комендантского взвода и незнакомая женщина в черном платье и в черном платке, повязанном по-монашески. Алексей Иванович сидел, положив руку на гроб. Глаза у него были сухие, за всю дорогу он не произнес ни одного слова.
Киру похоронили на кладбище неподалеку от Добендорфа, на участке, отведенном для русских офицеров.
Алексей Иванович помог снять гроб с машины, нес его вместе со всеми до узкой, экономно вырытой могилы — все молча, без слез. Подружка Астафьева, — я узнал, что ее зовут Клава Козихина, — тоскливо сказала поручику:
— Господи, что же он молчит!
Когда гроб опустили и солдаты вооружились лопатами, Козихина истерично крикнула:
— Подождите!
Она подошла к краю могилы, плача, кинула горсть сухой, пыльной земли на гроб и сердито приказала Орлову:
— Бросьте! Нельзя так…
Орлов послушно исполнил ее требование и отошел в сторону.
Солдаты быстро закидали могилу, похлопали лопатами по маленькому холмику, покурили и пошли к машине. Астафьев с трудом увел Козихину — плакать она уже не могла, ее одолела икота.
А Орлов все сидел у могилы. Я подошел к нему:
— Пойдем, Алексей Иванович… Надо ехать… Он решительно поднялся:
— Надо так надо.
Подошел к могиле Киры, постоял и пошел впереди меня. У ворот он повернулся ко мне:
— Сейчас Сережа, наверное, дома. И ничего он не знает…
Через два дня застрелился поручик Астафьев. Тогда не могли понять, что заставило его покончить с собой. Трухин угрюмо изрек:
— Разберемся на страшном суде.
А я пожалел, что так и не поговорил с Астафьевым всерьез.
Позднее Клава Козихина рассказала, как все это произошло:
— После смерти Киры его словно подменили. Он совсем перестал со мной разговаривать — все молчал. Молчал и пил. Он и до этого со мной ласковый был, а тут совсем стал словно ребенок — положит голову ко мне на колени, руки мне целует и молчит…
А в последний вечер все говорил, говорил… «Давай, Клава, умрем вместе». Я очень испугалась — глаза у него тоскливые, плачет. Потом принялся бранить всех этих: «Ненавижу всю эту сволочь, Власова ненавижу. Трус и немецкий холуй». Про вас, Павел Михайлович, так и сказал: «Я его все равно убью…» Вы уж извините меня, но это не я, а он говорил. А потом про себя: «Я дурак, у меня в башке плесень на мозгах». Потом опять про Власова: «Он жадный! Развратник…» Рассказал, как недавно из Югославии какой-то царский генерал привез много ценностей, какойто фонд. «Ты бы видела, Клаша, как Власов на эти драгоценности смотрел! У него слюни текли, как у голодной бешеной собаки. Он их обязательно украдет. Даже Трухин предложил драгоценности сдать в банк, а Власов закричал: «При чем тут банк?» А что он про Орлова говорил?! «Этот подлее всех. Я сначала восхищался им, думал, настоящий русский, а он, оказывается, ублюдок». Весь вечер вспоминал Киру, ее слова: «Как ты мог, Алеша?!» Оделся, хотел идти к Орлову: «Я его сейчас убью!» Я его с трудом удержала, револьвер спрятала, раздела. Дала вина, думала, может, уснет… Он притих. Я обрадовалась. Он попросил, чтобы я сходила к портье, взяла таблеток сонных. «Не усну, только измучаюсь…» Вхожу и говорю: «Принесла. Портье сказал, очень хорошие таблетки, сразу уснешь». А его нет. Я в ванную, а он на полу…
Об Астафьеве забыли сразу, словно его и не было вовсе. Кроме Козихиной, никому до него не было дела.
Разве уснешь…
Плен есть плен!
Плен — это не знать, где очутишься через неделю, через три дня, завтра… Живешь и не предполагаешь, что в Берлине, на Унтер ден Эйхен, в личном штабе рейхсфюрера СС, в Ораниенбурге под Берлином, в главном Административнохозяйственном управлении СС, в отделе «Д» (концентрационные лагеря) в Берлине, Вильмерсдорфе, Кайзераллее, 188, в управлении командования СС, в Берлине, Принц-Альберштрассе, 8, в главном управлении имперской безопасности, в управлении тайной государственной полиции, — да мало ли где, в какой-нибудь канцелярии какой-нибудь эсэсман, унтер-шарфюрер в служебном рвении вдруг усмотрит, что для Великой Германии было бы в высшей степени полезно группу военнопленных «А», содержащуюся в шталаге 303, переместить. Куда? Ну, скажем, в Нюрнберг…
Хорошо, если в Нюрнберг, — не дай господь в Аушвиц. Есть, говорят, там одиннадцатый блок, из которого выход только один — во дворик, окруженный глухой стеной. На стене, середина которой облицована стальным щитом, что-то вроде прибора для измерения роста, как на призывном участке. Говорят, ведут после допроса к этому прибору. Поставят спиной к планке, а дежурный ротенфюрер, сидя в удобном кресле, нажмет спусковой крючок пристрелянной винтовки. Прозвучит выстрел, которого ты не услышишь…
Или попадешь в Маутхаузен, в Дахау, Терезиенштадт, в Ровенсбрук, Треблинку, Майданек, в Бухенвальд — проклятых мест много.
Плен есть плен.
Двое суток товарный вагон, в котором везли Михаила Федоровича Лукина и других генералов и офицеров, болтался по Германии, стоял подолгу на запасных путях. Иногда удавалось определить место, где находились, — ночью были в Ганновере, а в полдень очутились в Кёльне.
На рассвете третьих суток высадили на какой-то станции, и, как всегда, не на главном вокзале, а на товарной.