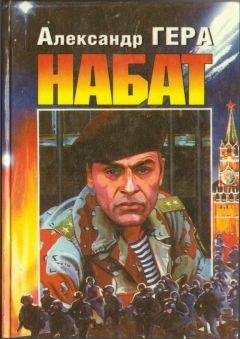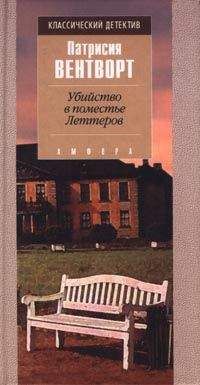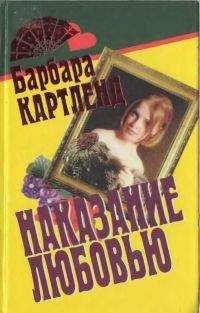Николай Псурцев - Голодные прираки
– Он русский, – заявил одноязыкий Сахид.
– Русский, – сморщился Нехов и поскрежетал зубами, пробуя слово на крепость. – Русский. – Не разгрызть словцо. Нехов иол ожил его в карман.
– Он помогал нам, – умильно плакал Сахид, – Он был сторонником Движения освобождения Доброты. Он сам вызвался помочь. Его никто не просил. Он такой чудный, такой голубоглазый, такой пухлогубый, такой прелестный, такой ароматный, такой нежный, такой сексуальный, так и хотелось его облизать, – Сахид высунул язык и стал упоенно лизать дымный воздух.
Небритые снова пошли в атаку. Но из кабинета их неожиданно вытолкнул стол, весело выпрыгнув в коридор и помчавшись, грохоча и потрескивая, по шаткому полу и по валкой лестнице. Хряк. Бряк. Дряк.
– Имя?! – Нехов щекотал Сахиду пятки.
– Он назвал себя Сильвио, – похохатывал, возбуждаясь, Сахид. – И всегда говорил, что последний выстрел за ним. Ха-ха-ха, хо-хо-хо, хи-хи-хи!…
– Где он?! – проорал Нехов Сахиду в самый его нос, Нос шевельнулся и побледнел, застигнутый врасплох.
– В моем сердце, – прошептал Сахид. И ударил себя пальцем в сердце и попал в него – пальцем, – пробив кожу и вонзившись меж ребер. В самую его серединную середину попал. Сахид высунул палец, облизнул его и перестал дышать, и, уже не дыша, все подмигивал Нехову, похохатывал, кокетничая, все завязывал губки изысканным бантиком.
– Ну, ты козел! – констатировал Нехов и чуть не заплакал от жалости: как-никак ведь вальс они с этим козлом плясали, а это что-то да значит по этой жизни. Так-то.
МИР
…Я открыл глаза и, жмурясь от горячего слепящего солнца, поднялся, выпрямился и сел в лодке. Воспоминание было действительно хорошим. Лучшего я и не мог себе представить для доказательства того, что я действительно понял, что наиболее важное в жизни – это сама жизнь.
Пока только понял, не осознал.
Взялся за весла и поплыл к берегу. Я плыл и думал. А надо ли насильно внедрять в себя мысль, что самое важное в жизни – жизнь? Ведь наверняка же знание этого, не мысль, а именно знание, имеется уже в моем подсознании (так же как и в подсознании любого родившегося на этой земле человека). Наверняка имеется, мать вашу! Не может не иметься. Потому что в противном случае люди бы повально кончали бы самоубийством или просто бы затухали и умирали тихо, не дожив до положенного срока. А раз такое знание имеется, то, значит, совсем не надо привносить его извне, а надо только попробовать добраться до него внутри себя, добраться. Так, так, так… Я уверен, что такой путь наиболее верен, а значит, и наиболее оптимален, а значит, наиболее легок. Наверное.
Спроси любого, что важнее всего в жизни, и после недолгих размышлений и наводящих вопросов любой ответит тебе, что важнее всего жизнь. Да, не сомневаюсь, так скажет почти каждый. Но тогда почему люди, все люди, так расстраивается из-за потерянных в трамвае денег, из-за конфликтов с начальством, из-за измены любимого, от грубого слова в железнодорожной кассе, из-за того, что вовремя не был готов обед, из-за того, что не пригласили в гости, из-за того, что кто-кто что-то сказал недоброе за спиной или в лицо, или в ухо, из-за того, что кто-то посмотрел неласково, из-за того, что кончился бензин или сломалась машина, из-за того, что не досталась путевка в санаторий, из-за того, что не пришло письмо, из-за того, что кто-то не позвонил, из-за того, что обокрали? А откуда в конце концов столько причин для ссор между самыми близкими людьми, если мы знаем, что самое важное в жизни – Жизнь? Я могу ответить на эти вопросы. Потому, что ми только говорим о том, что самое важное в жизни – Жизнь. Но даже (хотя бы как я) не приблизились к истинному пониманию, что так есть на самом деле. А так есть на самом деле.
«Я доберусь до этого знания, – сказал я себе. – Я доберусь» Лодка уперлась в берег. Спрыгнув на песок и подтянув за собой лодку, я сильно провел пальцами по лицу и, глубоко и чисто вздохнув, подумал, а хорошо бы остаться здесь подольше. Но я не останусь. Завтра или послезавтра или уже сегодня вечером я уеду отсюда.
Я знаю, что случилось то, что раньше или позже должно было случиться. И я просто приблизил день и час события. Но тем не менее – объективно – все началось именно с меня. Это же ведь я пришел в Дом моды Бойницкой. Это же со мной обнималась и целовалась Ника Визинова, чем вызвала патологическую ревность и штормовое негодование Бойницкой. Это же я в конце концов подстрелил двух заспинников Бойницкой и в довершение всего далеко не по-джентльменски оттрахал ее саму. (Я довольно ухмыльнулся, вспомнив, как, не сдержавшись, Бойницкая все же закричала, кончая.) Так вот объективно выходит так, что все началось именно с меня в тот день и час. А значит, именно я и несу ответственность за произошедшее – перед собой и прежде всего, прежде всего, прежде всего перед Никой Визиновой. И я обязан теперь обеспечить ее (Я люблю ее!!!) безопасность, (То, что Бойницкая попытается достать ее, а через нее и меня, сомнений не вызывает. Я профессионал. Ну, хорошо. Я был профессионалом. Но чутье-то осталось, осталось ведь, вашу мать! И я предощущаю развитие событий – Бойницкая, сука, станет отвечать, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука!) В день, когда все произошло, уже после того, разумеется, как все произошло, я отвез Нику домой. Там мы забрали ее сына и.отправились дальше, на квартиру к ее одинокой тетке, адреса которой – Ника была уверена – Бойницкая не знает и вряд ли когда-либо узнает. Я наказал Нике не высовывать носа из дома дня три-четыре, пока ситуация не остынет, и сообщил также, что сам я тем временем съезжу за машиной, которая сейчас будет нам крайне необходима, а когда приеду, постараюсь узнать, какой вариант ответа нам готовит Бойницкая.
В электричке по дороге в Кураново я понял что не только автомобиль был причиной моей поездки на турбазу к Петру Мальчикову – мне до боли в висках хотелось остаться одному. Мне хотелось тишины, влажного воздуха, чистого и резкого запаха земли, хвои, воды, скрипа весельных уключин, ворчания деревьев над головой, шуршания пролетающих птиц, тихого ветра в лицо, беличьего цоканья, мягкого неба наверху, болезненной заботы далеко в стороне (настолько далеко, будто ее и нет вовсе), ритмичного и четкого сердцебиения, сухих ладоней, легких лба и висков, не пересыхающего рта, пружинящей травы, скучной многословной книги, обшарпанного черно-белого телевизора – одним словом, всего того, что сейчас в данное конкретное время я и имел.
Я привязал лодку к дереву. И пока обматывал дерево цепью, захотел вдруг обнять его, прижаться к нему – грудью, бедрами, коленями, и щекой. Я ощущал, какое оно теплое. Я слышал, как оно живет. И я понял, что хочу поговорить с ним. «Меня зовут Антон, – сказал я дереву. – А тебя?» Я приложил ухо к стволу. Дерево молчало. «Меня зовут Антон, – повторил я. – А тебя?» И снова я не услышал ответа. «Меня зовут Антон, – ласково проговорил я. – А тебя?» Ухо слышало только шум движения соков под корой, и все. «Меня зовут Антон, – засмеялся я. – А тебя?» Дерево или не хотело отвечать, или просто не знало нашего языка. Хотя оно не могло не знать нашего языка, подумал я, ведь деревья уже столько тысячелетий живут рядом с людьми, и давно уже наверняка должны были научиться человечьему языку. «Меня зовут Антон, – говорил я, не переставая. – А тебя?… Антон… зовут… тебя… Антон… тебя… тебя… зовут… тебя… Антон… – меня…» Не час стоял я и говорил. И не два, и не три, наверное. Устал, замерз, перестал чувствовать язык и щеку; «Меня зовут… а тебя… Антон… меня… зовут… зовут… меня… тебя…»
Петр рассказал потом, что от дерева он отодрал меня с трудом, руки мои впились в ствол так, рассказывал Петр, что пальцы продавили кору, кроша, Петр рассказывал, что колол сведенные мои мышцы кончиком ножа, чтобы они вновь начали сокращаться и смогли расслабиться. Петр рассказывал, что ему пришлось несколько раз ударить меня по лицу кулаком и сильно, чтобы я пришел в себя.
Петр сидел у меня в домике, пил водку и рассказывал.
А еще он рассказывал, что несколько лет назад, когда он жил в городе, в один прекрасный день он вдруг захотел ударить ножом женщину, которая приходила к нему убирать квартиру. Не убить, такой мысли не было, а именно ткнуть в женщину ножом. И тыкать потом и тыкать, тыкать, тыкать. До крови. Глубоко и еще глубже. Петр уже нож взял и уже занес его над несчастной женщиной. Высоко занес. И ткнул ножом самого себя в последний момент. Потому что надо было в кого-то ткнуть, рассказал Петр, потому и ткнул. В последнюю секунду сработал какой-то инстинкт, и не стал Петр резать пожилую домработницу, ничего не подозревающую и напевающую про праздник с сединою на висках, а вхреначил нож в себя – чуть повыше сердца. Потому что, если бы не вхреначил, рассказывал Петр, в себя, то непременно всобачил бы его (нож) в бедную уборщицу (сохранившую еще, кстати, рекомендательные письмо от самого аж князя Юсупова). Нож сломался от силы удара, рассказывал Петр. И кровь плеснула из дырки на рубашке и потекла, густея, по ткани. Петр промыл и продезинфицировал рану, перевязал ее, выпил водки и на том успокоился. Однако… Петр доканчивал вторую бутылку. Сам я не пил. И даже не курил. Я полулежал в драном кресле и слушал Петра. А Петр рассказывал. – не матерясь и очень складно, без слов-паразитов (как их называли в школе), не цыкая, и не плюясь. Однако, рассказывал Петр, желание резать, оттого что он ткнул ножом самого себя, не пропало. Следующим объектом для разделки туши стала писклявая толстая соседка. Когда Петр не видел ее, ему было, конечно, наплевать на нее, рассказывал Петр, но когда Петр видел ее, рука его снова невольно тянулась к ножу, удобно и ловко ухватывала его за рукоятку и сама по себе поднималась вверх для нанесения тайного и сильного удара. И во второй раз Петр, рассказывал Петр, в последнюю секунду ударил самого себя, теперь чуть пониже сердца. А когда еще и в третий раз – пожелав разрезать слесаря-сантехника, – Петр рассказывал, он нанес себе новый ножевой удар уже чуть правее сердца, он решил, что пора что-то делать, иначе или он станет новый Чикатило, или попадет в психушку. И он устроился на работу на Курановскую турбазу. Зимой это было. И в том спасение оказалось. Потому что, если бы он прихайдакал туда летом, рассказывал Петр, то он точно кому-нибудь голову от туловища отделил. А зимой на турбазе никого, естественно, не было. Петр жил совсем один – сироткой. И к тому времени, когда весной на базу приехал ее директор проверить, как и что, у Петра уже пропало всякое желание тыкать в кого-либо ножом. Петр, рассказывал Петр, излечился. В каждом из нас просыпается такое желание, рассказывал Петр, иногда, кого-то прирезать, или просто ударить кулаком, без всяких видимых или невидимых на то причин, или оттаскать кого-то за волосы, или садануть подвернувшимся под руку кирпичом, булыжником, доской, или ткнуть отверткой в слишком открытый глаз, или полоснуть бритвой по слишком закрытому рту, или отгрызть ухо, или сломать об колено чьи-то ногу или руку. И не надо такого желания пугаться, такое желание в определенные периоды жизни возникает у каждого, рассказывал Петр, ополовинив третью бутылку, не икая и не потея, покуривая «Лаки Страйк» и почесывая грудь под шелковой рубашкой от Мак-Грегора, Чаще хочется совершать подобное с хорошо знакомыми людьми, реже с малознакомыми, чаще с женщинами, реже с мужчинами. Надо постараться проанализировать свое желание, поиграть с собой в вопросы и ответы (а иногда можно и в крестики-нолики) и, основываясь на своих ответах, найти для себя приемлемый способ избавления от такого желания – как то, например: уехать от людей подальше, заняться спортом, начать пить горькую или сладкую, усердствовать в сексе или, забыв и о себе и обо всем остальном, броситься в работу (или уж в крайнем случае, если уж совсем невмоготу, вместо кого-то другого дубасить кирпичами, тыкать ножами, бить кулаками и простреливать пулями самого себя и никого другого). Можно, можно, рассказывал Петр, именно так переориентировать себя. Основная трудность в таком самолечении, заключается в том, чтобы заставить себя поверить, что ты сам, без помощи кого-либо можешь справиться с мучающей тебя напастью. Главное знать, что напасть пройдет. Что не с тобой одним такое. А со всеми, со всеми.