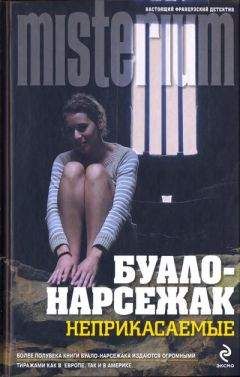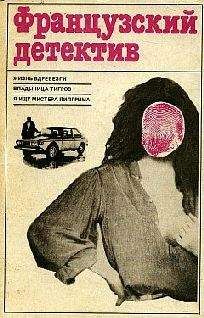Пьер Буало - Неприкасаемые
«Секретарь, милая моя Элен, не слишком много для них весит».
«Ну, не скажи! Ты все же не первый встречный».
И она меня целует, стремясь придать мне уверенности.
«Найдем что-нибудь. Вот увидишь. Возьми, к примеру, мужа Денизы — он семь месяцев был без работы, а уж на что классный электрик. Всегда все в конце концов устраивается. Не надо только опускать руки».
Мы обедаем, и она опять уходит. Вымыв посуду, я наскоро подметаю пол и пишу несколько писем. Адресую я их директорам частных школ. В самом деле, я убежден, что единственная подходящая для меня работа — это место преподавателя. Преподавать грамматику и орфографию мальчуганам лет двенадцати вполне в моих силах, да и частных школ всюду предостаточно. Все они носят громкие имена, от которых немного робеешь. А потому письма я пишу с большой осмотрительностью. Главное, чтобы не создалось впечатления, будто я заурядный попрошайка. Но при этом не следует казаться и слишком уверенным в себе, тем паче что дипломы мои не так уж много весят. Стоит ли, скажем, упоминать о том, что долгое время я служил секретарем у знаменитого писателя? Репутация Ланглуа едва ли может оказать положительное влияние на директора лицея имени Анатоля Франса или имени Поля Валери.
Составив два письма, я в изнеможении встаю — голова гудит от множества перепробованных, перечеркнутых, переиначенных фраз. И ведь мне не потрудятся даже ответить. Я уверен, что в эту самую минуту десятки соискателей пытают, как и я, удачу, имея к тому же куда больше титулов, чем я. Тем не менее я иду отправить письма. При этом совершаю небольшую прогулку — исключительно в оздоровительных целях, совсем так же, как выгуливают собак. Временами меня угнетает сознание собственной никчемности. И я останавливаюсь перед какой-нибудь витриной или просто на краю тротуара. У меня вдруг начинает болеть душа — так болит у человека ампутированная рука или нога. А мимо течет толпа, ко всему безразличная. До меня никому нет дела, разве что хозяину бистро, куда я обычно захожу.
«Все в порядке, мсье Кере? Двигается книжка?»
«Да не очень».
«Что же вы хотите! Вдохновение-то… э-э… его по телефону не закажешь… Что вам подать? Рюмочку кальва? Вот увидите! Сразу появятся идеи».
Я выпиваю кальвадос, чтобы доставить ему удовольствие: он ведь так дружелюбно на меня поглядывает. Элен об этом не узнает. Узнай она, что я пью с овернцем, она была бы смертельно оскорблена. Уж очень она, бедняжка, мной гордится. Потому и сердится, когда я говорю, что готов пойти на любую работу. У нее чувство чести прямо как у аристократки — правда, проявляется оно несколько прямолинейно и примитивно. Есть вещи недопустимые — вот и весь разговор. Опрокидывать рюмку кальвадоса, стоя у цинковой стойки, значит потерять всякое достоинство. Вас удивила бы ее шкала ценностей. Быть парикмахершей — хорошо. А быть парикмахером — нелепо. Быть продавщицей — хорошо. А быть продавцом — все равно что быть лакеем. И т. д. Я часто пытаюсь вразумить ее. Она начинает дуться. «Конечно, я же необразованная», — говорит она, ставя меня на место. А мгновение спустя, заливаясь смехом, кидается мне на шею. «Ты же знаешь, что я крестьянка!» Когда-нибудь я Вам подробно опишу Элен. Вы просто представить себе не можете, как отрадно мне теперь сознавать, что есть кому излить душу.
Прощаюсь ненадолго. Быть может, и до завтра, если жизнь покажется мне невмоготу.
С глубокой нежностью Ваш Жан-МариРонан слышит на лестнице голос Эрве.
— Я всего на минутку. Обещаю вам, мадам. Да к тому же меня ждут.
Шаги затихли. Перешептывание. Время от времени голос Эрве: «Да… Конечно… Понимаю…» Она, наверное, повисла у него на руке и пичкает наставлениями. Наконец дверь отворяется. Эрве стоит на пороге. Позади него едва заметна сухонькая фигурка в трауре.
— Оставь нас, мама. Прошу.
— Ты знаешь, что сказал доктор.
— Да… Да… Все ясно… Закрой дверь.
Она повинуется с подчеркнутой медлительностью, выражающей неодобрение. Эрве сжимает руку Ронана,
— Ты изменился, — говорит Ронан. — Растолстел-то как, честное слово. Когда мы виделись последний раз… Погоди-ка… Девять лет назад, а?.. Почти. Садись. Снимай пальто.
— Я не хочу долго задерживаться.
— Да брось ты! Ты же знаешь, не мать тут правит бал. Садись. Но главное, не заводи разговора о тюряге.
Эрве стаскивает легкое демисезонное пальто. Под ним элегантный твидовый пиджак. Ронан быстро окидывает приятеля взглядом: на запястье — золотые часы; на безымянном пальце — массивный перстень с печаткой; галстук дорогой фирмы. Все атрибуты удачи.
— Жалости ты не вызываешь, — говорит Ронан. — Дела идут?
— Да вроде ничего.
— Расскажи. Это меня развлечет.
Ронан произносит это прежним полушутливым, полусаркастическим тоном, и Эрве сдается с легкой улыбкой, означающей: «Я готов поддерживать игру, но не слишком долго!»
— Все очень просто, — говорит он. — После смерти отца я создал при фирме по перевозке мебели большую транспортную контору.
— Что же вы, например, транспортируете?
— Все… Мазут… Рыбу… Моя сеть перевозок охватывает не только Бретань, но и Вандею, и часть Нормандии. У меня и в Париже есть отделение.
— Ну и ну! — восклицает Ронан. — Ты стал, что называется, преуспевающим господином.
— Я повкалывал будь здоров!
— Не сомневаюсь.
Молчание.
— Ты на меня в обиде? — спрашивает Эрве.
— Ну что ты. Ты заработал много денег. Это твое право.
— Э-э! Я знаю, о чем ты думаешь, — говорит Эрве. — Я должен был чаще навещать тебя. Верно?
— Чаще!.. Ты приезжал всего один раз.
— Но пойми ты, старина. Нужно запрашивать разрешение; оно проходит тьму-тьмущую инстанций, а потом тебе устраивают настоящий допрос. «Почему вы хотите говорить с заключенным? Подробно укажите причины, объясняющие, почему…» И так далее. Твоя мать могла видеться с тобой часто. Она единственная твоя родственница. А я…
— Ты, — шепчет Ронан, — у тебя были другие дела. Да и потом, для твоей фирмы лучше было держаться подальше. Связь с получившим срок компрометирует.
— Если ты не оставишь этот тон… — говорит Эрве.
Он встает, подходит к окну, приподнимает занавеску и выглядывает на улицу.
— Она, верно, совсем извелась, — замечает Ронан.
Эрве оборачивается, и Ронан улыбается невинной улыбкой.
— Как же ее зовут?
— Иветта, — отвечает Эрве. — Но откуда тебе известно, что…
— Будто я тебя не знаю. Старый кот! Ладно, садись. Раньше они у тебя держались по три месяца. А эта Иветта сколько протянет?
Оба смеются, как два заговорщика.
— Я, может, на ней женюсь, — говорит Эрве.
— Неподражаемо!
Ронан искренне веселится. Дверь приотворяется. Появляется щека. Глаз.
— Ронан… Не заставляй меня…
— Ты мне осатанела, — кричит Ронан. — Оставь нас в покое.
Движением руки он будто захлопывает дверь.
— От нее озвереть можно, — говорит он Эрве.
— Тебя что, правда здорово прихватило? Твоя мать нарассказывала мне всяких ужасов.
— У меня гепатит в тяжелой форме. Чувствуешь себя при этом отвратно, а можно и вообще копыта откинуть, вот так-то.
— Из-за болезни тебя и выпустили?
— Ну, конечно, нет. Они просто решили, что по прошествии десяти лет я сделался безвреден. Потому и простили. А гепатит — это в придачу. Я еще не одну неделю проваляюсь.
— Тоска, наверное, зеленая?
— Да нет, ничего. Не хуже, чем там. Я вот думаю написать книгу… Что, челюсть отвисла?
— Признаюсь…
Ронан приподнимается на подушке. И лукаво прищурившись, смотрит на Эрве.
— Думаешь, мне нечего рассказать, да? Наоборот, я могу порассказать о многом. Скажем, о тех годах, которые предшествовали заварухе. Хочется объяснить людям, что представляло собой наше движение.
Эрве с беспокойством смотрит на него.
— Мы ведь не были шпаной, — продолжает Ронан, устремив взгляд в потолок, точно говоря сам с собой. — Нужно, чтобы это наконец всем стало ясно. И иллюминатами[5] мы не были. — Он резко поворачивается к Эрве и хватает его за руку. — Ну, по-честному?
— Да, конечно, — соглашается Эрве. — Но не думаешь ли ты, что лучше бы предать всю эту историю забвению?
Ронан злобно усмехается.
— Что, пощекотало бы тебе нервишки, если бы я вдруг принялся описывать наши собрания, наши ночные вылазки, да просто все подряд? А ведь вы могли бы поддержать меня в суде. Но вы бросили меня — пусть себе тонет… О, я на тебя не в обиде!
— Я испугался, — шепчет Эрве. — Я и не думал, что все обернется так худо.
— Ты хочешь сказать, что не принимал наши действия всерьез?
— Да. Вот именно. Видишь ли… Сейчас я буду совершенно откровенен. Когда я приехал к тебе в тюрьму… все, что ты рассказал мне… о Катрин… о Кере… меня прямо-таки сразило… Потому я и решил больше не приезжать. Но теперь со всем этим покончено. Это уже в прошлом.