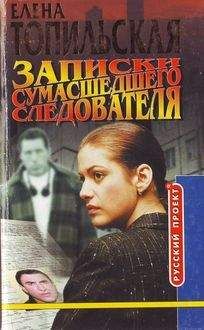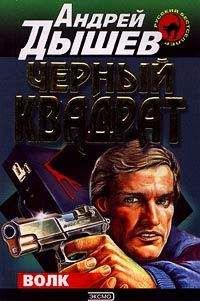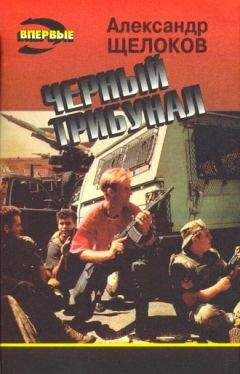Александр Щелоков - Крысы в городе
— Э, — сказал он раздраженно, — я всех просил сюда не приезжать.
— Я не все. — Кольцову передалось раздражение хозяина. — Ты это должен знать.
Но Саддам уже почуял неладное. Осторожность хищника с возрастом не притупляется, а становится более острой.
— Ладно. Раз приехал — ты гость. Пошли в дом. Будем обедать. — И сразу задал главный вопрос: — Что случилось?
— Все плохо. — Кольцов не пытался скрывать озабоченность. — Горчаков получил разрешение задержать тебя…
— Гетферран! — Саддам не выбирал выражений, ругаясь и по-русски, и по-азербайджански. — Ты куда смотрел? Я тебе давно говорил, надень на этого осла узду. Пусть она будет золотая, я бы заплатил. Теперь придется его убирать.
— Не так просто. — Кольцова раздражала самоуверенность Саддама. — Насколько я знаю, бумаги у Горчакова уже на руках.
— Подавится. Бумаги — его проблема.
Кольцов сдержал мат, который так и просился на язык.
Саддам воспринял это как проявление смирения и смягчился.
— Хватит о ерунде. Пошли обедать.
За столом Кольцов вернулся к беспокоившей его проблеме.
— Ты зря так спокойно относишься к моему предупреждению. Если Горчаков возьмет тебя, за тобой потянут меня. Нас тогда уже никто не вытащит из ямы.
— Боишься за меня или за себя?
— За обоих.
— Спасибо, за меня не беспокойся.
— А я вот беспокоюсь. Особенно когда дураки начинают лепить глупость на глупость. Зачем Бакрадзе надо было мочить Денисова?
— Э-э! — Саддам лениво махнул рукой. — У Бакра с ним свои счеты. Мент накрыл его на десять «лимонов». Ни себе, ни людям не досталось. И потом крутился не там, где надо. Зачем останавливал машину? Кто знал тогда?
— Вот и доигрались. Когда Катрич вцепится в это дело, его не оторвешь.
— Уберем. Один дурак не сумел, пошлем двух. У тебя все? Тогда успокойся.
Саддам держался с апломбом, словно облеченный высокими полномочиями представитель великой державы, оказавшийся на приеме в посольстве страны, живущей на кредиты. Коротко остриженный, с благородной сединой в висках, с удлиненным, по-восточному красивым лицом — орлиный нос, стрелка черных усов, регулярно подправляемая бритвой, энергичные губы, проницательные глаза, глядящие на мир из-под густых бровей. Несмотря на свои полсотни лет, Саддам выглядел худощавым, подтянутым, энергичным. Распахнутый ворот дорогой кремовой рубахи открывал клинышек широкой волосатой груди. Ладони с крепкими длинными пальцами (в таких удобно держать и авторучку, и нож) спокойно лежали на коленях.
— Ты помнишь, — сказал Кольцов, — кто помог тебе укрепиться?
— Нет, — оборвал его Саддам. — Зачем помнить? Что помнить? Если мы начнем все вспоминать… Разве не я толкал тебя наверх?
Саддам и в самом деле чужих услуг не помнил. Незачем ему это было.
Память избирательна и зависит от характера человека. Оптимист быстро забывает плохое. Неприятные события теряют четкость очертаний и тают в потоке времени, не оставляя ни боли утрат, ни сожаления о прошедшем. Зато легко и часто вспоми-наются события веселые, смешные, похожие на анекдоты. Пессимист, наоборот, с дотошностью бухгалтера ведет счет и не перестает помнить свои неприятности и несчастья. Кольцов в молодые годы потерял двадцать копеек, которые мать дала ему на мороженое, и до зрелых лет помнил этот злосчастный случай, будто он произошел с ним только вчера.
Есть характеры, разместившиеся в широком пространстве между оптимизмом и пессимизмом. Эти люди вообще стараются не трогать прошлого, не пытаются искать в нем ни ответов на настоящее, ни упреков или укоров себе. К этой категории относился и Саддам. Он жил сегодняшним днем и думал только о дне завтрашнем. Думал, потому что размечал пути, по которым удобнее всего идти дальше, определяя препятствия, которые могли ему помешать, и уже загодя предпринимал все возможное, чтобы убрать их с дороги.
Саддам в своей семье оказался яблоком, которое откатилось от яблони слишком далеко. Его отец — Мамед Али — был помощником бурового мастера на бакинских нефтяных промыслах. Его мать — деревенская красавица, привезенная в город из-под Евлаха, темноглазая, черноволосая, с длинной косой — родила семерых парней, целое пехотное отделение. Двое из ребятишек умерли во младенчестве. Пополняя семейный бюджет, мать работала воспитательницей в детском саду. На ее плечах лежала забота о пятерых огольцах, которые фактически росли без родительского присмотра, как сорная трава на запущенном огороде.
Мамед Али прожил недолго. Он умер в сорок четыре года, оставив после себя два значка «Ударник пятилетки», три Почетные грамоты Президиума Верховного Совета республики, орден «Знак Почета» и триста рублей на сберегательной книжке. Тяготы, свалившиеся на плечи матери, не сломили ее. Она устроилась ночной уборщицей в универмаг и добывала детишкам хлеб, работая в двух местах днем и ночью.
Али был старшим и избавился от опеки родителей раньше других. Он бросил школу, с трудом одолев семь классов. Рослый, жилистый, злой и завистливый, он спутался с воровской шайкой и стал одним из наиболее удачливых и отчаянных ее членов. Никто никогда не объяснял Али, что такое хорошо и что такое плохо. Эти истины он постигал сам. И выходило: все хорошее — это то, что выгодно ему, плохое — что идет во вред. Если тебе кто-то мешает воровать, а ты пырнул ему ножом в брюхо — это хорошо, поскольку мешать вору работать — плохо.
В результате в его сознании все человечество вскоре разделилось на две категории. Большая была скопищем плохих людей. Они придерживались законов, работали, норовили изловить воров, ставили на окна решетки, на двери сигнализацию, при любом случае искали защиты у милиции.
Силу денег Али понял при первом задержании. Его выкупил у милиции Алекпер Дадаев, слывший среди ворья паханом, а для милиции бывший образцовым гражданином, который никогда ни в чем не был замешан. Еще не оперившийся Али понял, что деньги обладают удивительным свойством: их никогда не бывает слишком много, а если их не счесть, то они могут все. Не деньги портят человека. Портит желание загрести их как можно больше. В социалистическом Баку, в царстве Гейдара Алиева, могучего брежневского сатрапа, подхалимствовавшего в Москве и куражившегося в Азербайджане, не существовало системы государственных фиксированных цен. В южной благодатной республике за все приходилось платить в два-три раза дороже, нежели в самом дорогом месте России.
Али на волне воровского успеха взлетел вверх, укрепился в клане воровских авторитетов, переехал в Россию с паспортом на фамилию Гуссейнов и возглавил крупное дело по торговле наркотиками. Крупное, потому что мелочевкой Гуссейнов не занимался. Сто-двести килограммов дури в контейнерах среди упаковок конфет или консервов из Ирана — вот его размах. Таможня, получая свою долю, в грузах, которые везли из-за границы посредники Гуссейнова Ханпаша Байрамов и Муса Алиев, не ковырялась.
За крутость характера, беспощадность в расправах с теми, кто пытался выйти из дела, Гуссейнова прозвали Саддамом, намекая на его сходство с иракским диктатором Саддамом Хусей-ном.
Понимание великой силы денег, врожденная азиатская властность у Саддама проявлялись в первую очередь в его отношении к людям: он их ни во что не ставил. Он платил, они служили ему, а тем, кому ты платишь, не положено строить иллюзий насчет своего положения. Наемники обязаны знать свое место. Не хотел Саддам менять привычек и сейчас, в разговоре с Кольцовым.
— Ты, мент, — Саддам произносил «мэнт», — не духарись. Да, мы с тобой состоим при одном деле, но между нами есть разница. Пока ты это не поймешь, будешь всегда ошибаться. Это при советской власти за мой же миллион рублей ты мог трясти мне душу и в конце концов посадить. Теперь тебе против моих миллионов «зеленых» не устоять. Я на тебя положил с прибором и держу возле себя только по старой дружбе. Ты твердишь: общее дело. Забудь. Не обманывай себя. Не надо. Да, дело общее, как у ишака и узбека. Но ты — ишак, я — узбек. Я тебя купил, ты мой груз возишь, Я могу тебя продать и даже убить. А ты, самое большее, можешь меня лягнуть.
Кольцов сидел, мрачно ковыряя вилкой в жарком. Он сам давно и прекрасно понимал все тонкости своих отношений с Саддамом — не дурак же мент в конце концов, но ему все время хотелось, чтобы этого не понимал Саддам. Так разбивший любимую чайную чашку отца малыш надеется, что его шалость никто не заметит. И вот теперь Саддам сразу все поставил на свои места, назвав кошку кошкой, мышку — мышкой. Однако упрямство Кольцова все еще не остыло.
— Значит, я не могу тебя ни продать, ни убить? Вопрос глупый, и почему он сорвался с языка, Кольцов не мог себе объяснить. Саддам вспылил.
— Потому, мент, что в моем деле ты сявка. Одна из многих. У меня на содержании сидят генералы и депутаты. Кому ты меня пойдешь продавать? Допустим, все же найдешь мудака с убеждениями. Как этот… Как его? Горчаков. Но тогда тебе придется признать первым делом, что ты весь в говне по самую кокарду. Защитничек! Дальше. Кому прикажешь меня убить? Сам за это возьмешься? Да ты, даже если из задницы от натуги груша вылезет, не сумеешь.