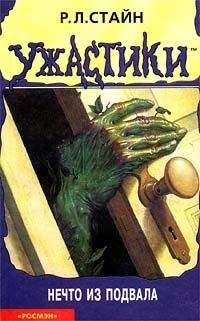Роберт Уилсон - Севильский слепец
— Порочностью?
— Читать эти дневники все равно что заниматься уголовным расследованием, — продолжал Хавьер. — Постепенно все выходит наружу. Вся тайная жизнь. Обществу — да и нам тоже — было открыто только то, на что прилично смотреть, но, по-моему, ему так и не удалось изжить в себе жестокость. Она проявлялась по-разному. Ты ведь знаешь, что часто, продав картину, он тут же бежал наверх и писал точную ее копию? Он всегда смеялся последним.
— Послушать тебя, так он был не таким уж приятным парнем.
— Приятным? Где в наши дни найдешь приятного парня? Все мы сложные и тяжелые люди, — откликнулся Хавьер. — Просто у папы были свои трудности в безжалостное время.
— А он объясняет, почему вступил в Легион?
— Это единственное, о чем он молчит. Он только упоминает о каком-то «инциденте». Если учесть, что во всем остальном он до безобразия откровенен, это наверняка было что-то ужасное. Что-то, изменившее его жизнь и засевшее занозой у него в сердце.
— Да он был совсем ребенком! — воскликнул Пако. — Что, черт возьми, может с тобой случиться, когда тебе всего шестнадцать?
— Много чего. Звякнул дверной звонок.
— Это Пепе, — сказал Хавьер.
Пепе Леаль, высокий и необычайно стройный, стоял перед дверью, вытянувшись по струнке и чуть запрокинув назад голову, как воплощенное ожидание. Он всегда сохранял серьезность и никогда не выходил из дому без пиджака и галстука. Никто не видел его даже в джинсах. У Пепе был вид мальчика, только что вернувшегося из частной школы, а вовсе не удальца, который выйдет на бой с пятисоткилограммовым быком и заколет его красивым и ловким движением.
Родственники обнялись. Хавьер повел Пепе в столовую, придерживая его за плечо. Пако тоже заключил юношу в объятия. Они сели бок о бок, но Пепе — Хавьер и прежде это замечал — оставался как бы сам по себе. И вовсе не потому, что имел великолепную выправку, пил только воду и сидел несколько отодвинувшись от стола. От простых смертных матадора отличало то, что он постоянно смотрел в лицо страху и побеждал его. Причем полностью отрешиться от страха не удавалось еще никому. Всякий раз, выходя на арену для смертельной схватки, Пепе заново преодолевал себя.
Хавьер видел его перед боем: дрожащий и мертвенно-бледный, он сидел в гостиничном номере, не уповая ни на Бога, в которого не верил, ни на людей, которые ничем не могли ему помочь. Он был просто оцепеневшим от ужаса существом. Затем его начинали одевать, и это запускало процесс. По мере того как смыкались на нем застежки traje de luces — его профессионального костюма, — страх усмирялся. Он больше не просачивался наружу, наводняя комнату невидимой заразой. «Светозарное одеяние» оказывало на Пепе магическое действие, напоминая о блестящей церемонии посвящения, сделавшей его полноправным тореро. А может, оно просто олицетворяло благородство профессии, и тому, кто в него облачался, ничего не оставалось, как держаться с подобающим достоинством. Тем не менее оно не избавляло от страха, а просто загоняло его внутрь.
— Ты в отличной форме, Пепе, — сказал Пако. — Как себя чувствуешь?
— Как обычно, — весело ответил он. — А как быки?
— Хавьер рассказывал тебе о моем Фаворите?
Пепе кивнул.
— Если ты его одолеешь, тебе никогда больше не придется сидеть сложа руки в ожидании контракта. Это как пить дать. Мадрид, Севилья и Барселона будут твоими.
Пепе снова кивнул: нервное напряжение лишило его дара речи. Пако описал ему других быков и, чувствуя, что Пепе хочет остаться наедине с Хавьером, извинился и отправился вздремнуть. Пепе позволил себе немножко обмякнуть.
— У вас изнуренный вид, Хавьер. Наверно, много работы, — сказал Пепе.
— Да, я даже сбросил вес.
— Вы сможете зайти ко мне в отель перед боем?
— Ну конечно, я постараюсь. Уверен, что мое расследование продержится без меня несколько часов.
— Вы всегда мне помогаете.
— Я тебе больше не нужен, — произнес Хавьер.
— Нет, нужны. Это очень важно для меня.
— А как твой страх?
— Без изменений. В этом я постоянен. У меня есть своя планка… но хотелось бы спустить ее пониже.
— Мне было бы интересно узнать, — сказал Хавьер, уцепившись за подвернувшуюся возможность, — как ты справляешься со страхом.
— Так же, как вы, когда сталкиваетесь с вооруженным бандитом.
— Я имел в виду другой страх.
— Страх один, идешь ли ты на верную смерть, или кто-то говорит: «У-у-у!»
— Да ты прямо-таки специалист! — воскликнул Хавьер, рассмеявшись и ласково похлопав Пепе по спине. Может, об этом не стоило говорить, подумал он, а то я только сбиваю его с толку своими глупостями.
— Скажите, что вас беспокоит, Хавьер, — произнес юноша. — Вы правы, я кое-что понимаю в страхах. Мне хотелось бы вам помочь.
— Я с тобой согласен… мы оба боимся того, что угрожает нам извне… Ты боишься быка, а я — бандита с оружием. Оба они непредсказуемы. Но они — всего лишь мгновения страха. Мы мучаемся ужасными предчувствиями, переступаем через них, и они уходят.
— Вот-вот. Вы знаете об этом столько же, сколько и я. Победу над страхом дают профессионализм, готовность рисковать и неизбежность риска.
— Неизбежность?
— Государство обязывает вас бороться с опасными преступниками от имени граждан Севильи. Контракт обязывает меня сражаться с быком. Это долг, от исполнения которого нам никак нельзя уклониться, иначе мы лишимся работы. Так что неизбежность помогает.
— Твой страх позора сильнее твоего страха перед быком.
— Если вспомнить всех солдат, сражавшихся во всех войнах, в которых использовалось самое разрушительное оружие… сколько было среди них трусов? Сколькие сбежали с поля сражения? Очень немногие.
— Возможно, это означает, что наша способность смиряться с судьбой безгранична?
— Зачем пытаться управлять неуправляемым? Я могу завтра отказаться от карьеры матадора, потому что слишком боюсь увечий и смерти, и буду по-прежнему переходить запруженные машинами улицы, ездить в транспорте и летать на самолетах, где каждого подстерегает бесславный конец.
— Все так, это неизбежность. А как насчет готовности рисковать? — спросил Хавьер. — По-моему, это похоже на храбрость.
— Так оно и есть. Мы смелые люди. Мы вынуждены быть такими. Это не бесстрашие. Это осознание своей слабости и готовность ее преодолеть.
— Ты часто ведешь подобные разговоры?
— Случается. С матадорами, у которых в голове водятся хоть какие-то мысли. Среди людей моей профессии нет великих мыслителей. Но нам всем приходится переламывать себя, даже величайшим из нас. Что сказал Пакирри, когда интервьюер спросил его, что труднее всего сделать, когда стоишь перед быком? Он сказал: «Вонзить клинок». Коротко и ясно.
— Когда я в первый раз шел брать вооруженного преступника, мой шеф дал мне такое наставление: «Помни, Фалькон, мужество всегда ретроспективно. Только задним числом понимаешь, что у тебя его хватает».
— Это правда, — сказал Пепе. — Потому мы и можем разговаривать, Хавьер.
— Но сейчас мной владеет совсем другой страх, — заговорил Фалькон, — страх, с которым я никогда прежде не сталкивался. Я изо дня в день живу под его гнетом, и самое худшее то, что поблизости нет ни бандита, ни быка. Моя смелость тут ни при чем, поскольку мне некому противостоять… кроме самого себя.
Пепе нахмурился. Он очень хотел помочь. И Фалькон решил оставить его в покое.
— Ну ладно, не важно, — сказал он. — Жалею, что об этом заговорил. Просто мне было интересно, есть ли у матадоров, постоянно ходящих по лезвию бритвы, какие-нибудь профессиональные приемы, помогающие переключиться, забыть?..
— Никаких, — отрезал Пепе. — Мы никогда себя не обманываем. В том-то и штука, что нам необходим страх. Как он ни неприятен, мы приветствуем его, потому что именно страх помогает нам видеть. Он наш спаситель.
Отрывки из дневников Франсиско Фалькона7 июля 1956 года, Танжер
Мне следовало бы больше интересоваться происходящими событиями. Я по-прежнему пью кофе с Р. в «Кафе де Пари», где только и разговоров что о независимом Марокко и о том, что будет с нами, сибаритствующей публикой, здесь, в Танжере. (По-моему, я тут один сибаритствую, а все остальные укрываются от налогов.) Но мне плевать. Я плыву по течению. Мне даже не нужно часто курить, потому что у меня и без того состояние невесомости. Моя мастерская с лепечущим (но никогда не орущим) Хавьером просто рай земной. Я тут недавно даже сам себя испугал: как-то поздно вечером, когда я занес перо над этим дневником, голос внутри меня вдруг произнес: «Ты счастлив». Я задумался, и тотчас умиротворенность была сметена тревожными мыслями. От М. по-прежнему ни слуху ни духу. Узкие переулки медины словно наполнены парами бензина — достаточно искры, и все взлетит в воздух. Аборигены предвкушают независимость. Они стоят на ее пороге и уверены, что теперь будут так же свободны и богаты, как иммигранты. Процесс затягивается, и в народе растут гнев и разочарование.