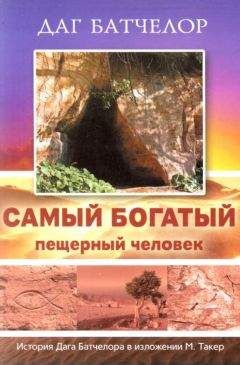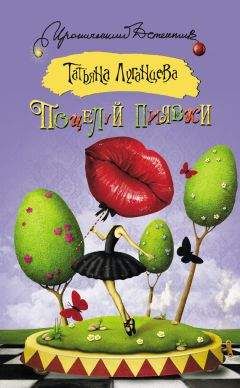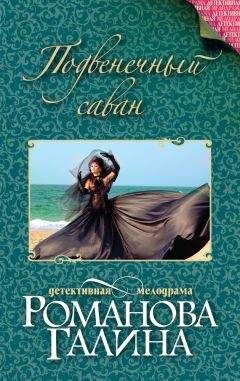Жан-Пьер Гаттеньо - Месье, сделайте мне больно
– В вашей работе есть целительный вызов.
– Мне это говорили уже сотню раз, – ответила она скептическим тоном.
Я подумал, что сейчас она уйдет, но, к моему большому удивлению, она добавила:
– Вместо того чтобы говорить избитые фразы, пригласите меня поужинать.
Она показала мне одетого с иголочки типа, поглощенного разговором с каким-то любителем искусства.
– Тогда мне не придется оставаться с Борисом. Он будет мне рассказывать, какую мазню продал и сколько я заработала благодаря ему, а потом захочет со мной переспать. Каждый раз одно и то же, это становится утомительным.
Мне хотелось бы знать, достиг ли Борис своей цели, но я не осмелился у нее спросить. Немного погодя мы отправились в ресторан недалеко от галереи.
За ужином мы говорили о живописи и психоанализе.
– Есть еще люди, которые ложатся на кушетку, чтобы говорить о своей жизни? – спросила она удивленно.
– Скорее, чтобы понять, что делает ее невыносимой.
– И это работает?
– Иногда.
Она расхохоталась.
– Для меня, когда я ложусь, жизнь перестает быть невыносимой.
Я в свою очередь рассмеялся. Очевидно, жизнь заставила ее проглотить горькую пилюлю, но мне показалось, что вместо того, чтобы избегать невзгоды» она, наоборот, черпала в них силы, чтобы творить и быть красивой. Волосы каштановыми локонами спадали ей на лицо, она движением головы отбрасывала их назад, открывая чистого зеленого цвета глаза. Вероятно, она заметила мое восхищение, потому что улыбнулась мне. В действительности, каждому из нас было плевать на то, что рассказывал собеседник. Главным было то, что должно было произойти после ужина. Когда я попросил счет, она, пристально глядя мне в глаза, сказала:
– Вам следовало бы порекомендовать мне попробовать вашу кушетку… Я думаю, что мне бы это очень понравилось.
Так началась наша связь, такая же бурная, как и ее живопись. Вся в противоречиях и столкновениях, где ничто никогда не было простым, где безостановочно переходили от неистовства к отчаянию, от разрыва к примирению. У меня было странное ощущение, что мы любим друг друга только для того, чтобы больнее расстаться. Но я цеплялся за нее так же прочно, как за симптом. Симптом, от которого она защищалась непостижимыми ссорами, долгими исчезновениями и внезапными возвращениями. Обижалась ли она на меня за небольшой интерес, который я проявлял к ее живописи? Она не дала себя одурачить ни моими разглагольствованиями о ее работе в галерее, ни тем, что я купил ее картину, которая висела теперь у меня в приемной.
Речь шла о полотне, высокопарно названном «Конец света». На голубом фоне, испещренном вызывающе яркими полосами и пятнами, появлялись, подобно ассоциации идей, формы пастельных тонов с неясными очертаниями, которые, казалось, исчезали – или возникали? – в шторме, их окружавшем. Сумбур, напоминающий ее саму и к которому я испытывал лишь умеренный интерес. «Вы ее купили, чтобы доставить мне удовольствие, – сказала она, – это неудачный поступок. Я предпочитаю, чтобы вы занимались со мной любовью». Она была права, я тоже предпочел бы именно это. Вероятно, это было единственной причиной, по которой мы нашли друг друга. Даже в такие моменты она обращалась ко мне на «вы», как будто для того, чтобы и здесь тоже сохранять дистанцию между нами. От этого она казалась мне еще более желанной. Голова откинута назад, создавалось впечатление, будто слушала какую-то внутреннюю музыку. Этой музыкой она делилась со мной. Я уступал ее неистовству, и наши тела двигались в полнейшем согласии, которого я не знал ни с одной другой женщиной.
Тем не менее в этот вечер я забыл о ней.
Был с другой… действительно. Которая, возможно, толкнула меня на смертоносное прелюбодеяние и, уже мертвая, угрожала разрушить мою жизнь.
Приступ ненависти поднялся во мне, но тут же прошел. Ненависть возникает только к живым. Лучше позвонить Ребекке, объяснить ей, что произошло. Не оставаться наедине с этой умершей. Я набрал ее номер. Прозвучал сигнал «занято». Чтобы я не звонил, она, должно быть, сняла трубку.
Усталым жестом я положил свою.
Когда я встал, чтобы взять сигарету со стола, мой взгляд упал на пальто и сумочку Ольги, спрятанные за креслом.
Я взял сумочку. Кроме двадцати тысяч франков наличными, в ней были документы на машину, водительские права, выданные на ее адрес – авеню Монтеспан, в шестнадцатом округе, ключи, две пудреницы – одна от «Ван Клиф amp; Арпель», другая от Картье, два «Ролекса», а также оправленные в бриллианты наручные часы фирмы «Бом и Мерсье». «Ее слабость – часы», – говорил Шапиро. Действительно, одни только часы «Жагер-Ле-Культр» из розового золота на ее запястье стоили целое состояние. К этому еще добавлялись явно дорогие ожерелье и кольца, украшавшие ее шею и руки. Если это были ее трофеи из ювелирного универмага Бернштейна, то можно было понять раздражение Шапиро. На дне сумочки я также нашел свою ручку «Мон Блан», исчезнувшую несколько недель назад. Ничто из всего этого не объясняло ее смерть. Разочарованный, я подумал, что разумнее было бы известить о случившемся Шапиро.
Именно в этот момент я вспомнил о своем бессознательном действии. Вместо того чтобы позвонить ему, я набрал номер Злибовика. Возможно, нужно было понимать эту ошибку буквально, в хронологии, которую она подразумевала? Сначала анализ, затем полиция. Разобраться в себе, если только сеанс поможет мне в этом, а ухе потом будь что будет.
Я почти почувствовал себя лучше. Это решение дало мне чувство, что я управляю событиями. У меня возникло внезапное желание покинуть этот кабинет, избавиться от всего, что он в себе заключал. Я убрал двадцать тысяч франков в ящик рабочего стола, открыл окно, потом пошел в раздевалку за своим пальто и через некоторое время очутился на авеню Трюден.
Я даже не ожидал, что на улице было так холодно. Опасный гололед покрывал тротуары. Фонари ничего не освещали. Однако, несмотря на темноту, была видна «Ланча» Ольги на стоянке с противоположной стороны авеню. Я отправился туда, стараясь не поскользнуться на шоссе.
Дверцы были закрыты. Я рассердился на себя за то, что не взял ключи, напрасно дергал за ручки, ни одна из дверей не открылась. Я уже собирался уйти, когда услышал, как кто-то сказал:
– Благородная машина, «Каппа LX». Две целых четыре десятых литра, это здорово.
Я повернулся. Передо мной стоял Герострат.
– Что вы делаете на улице в это время? – спросил я удивленно.
– Я мог бы задать вам тот же вопрос, шеф. Почему вы в этот поздний час стоите рядом с машиной одной из ваших пациенток?
Сердце чуть не выскочило у меня из груди.
– Откуда вы знаете, что это машина одной из моих пациенток? – пробормотал я, запинаясь.
– Из-за того, что брожу по кварталу, узнаю кучу вещей. Бели вам интересно, расскажу в другой раз, сейчас я начинаю уставать. Я нашел работу Деда Мороза в одном магазине. Провожу там весь вечер. Мне нужно домой, как я уже сказал, а живу я неблизко.
Я не мог вспомнить, чтобы он говорил мне об этом раньше, но это было неважно. Главным было то, что он знал про Ольгу и «Ланчу». Но он уже ушел, волоча за собой свою сумку на колесиках.
Достигнув площади д'Анвер, он крикнул мне:
– Не обижайтесь, скоро увидимся.
И растворился в темноте вместе со своей сумкой.
3
– Моя жизнь остановилась вчера. Как это произошло, не знаю. Я был в глубине черной дыры, а когда выбрался из нее, она уже была мертва, а я чувствовал сильную боль в предплечьях. Вы когда-нибудь видели задушенную женщину? Это отвратительно. След от удушения вокруг горла, язык вываливается изо рта. Неприятно проводить реанимацию. В любом случае следовало известить полицию, Шапиро, но из-за маракас, игравших самбу, я не смог. Потом появилась эта Математичка – любительница подслушивать. Я должен был от нее избавиться, а вместо этого спрятал труп под кушетку, как убийца. Но могу ли я им быть? Во сне я одновременно был и зрителем, и актером. Можно ли в одно и то же время находиться в своем кресле и на кушетке? Я видел ее мужа, но душил ее я сам. С чего бы мне это делать? После семинара в «Хилтоне» я должен был заехать за Ребеккой. Но не пошел на семинар и совершенно забыл про Ребекку, и все из-за убитой. «Эта женщина принесет тебе одни только неприятности», – говорил Шапиро. Как он поступит, когда узнает? Прежде чем прийти к вам, я оставил Ольгу на кушетке. Вы понимаете, на моей кушетке? Широко открытое окно, для сохранности, и она, застывшая, пустая, без единой мысли, без малейшей ассоциации идей. И больше ничего: ни бессознательного, ни желаний, ни неврозов, ни несчастного детства – больше ничего. И для меня больше нет будущего. Когда я признаюсь полицейским, они повесят эту смерть на меня и напустят экспертов решать, убийца я или сумасшедший. Вы знаете эту их песню: убийство в состоянии аффекта? Виноват, не виноват? Временное помрачение, удар грома средь ясного неба, предумышленный поступок или случай резкой спутанности сознания? Весь этот жаргон, который ничего не объясняет.