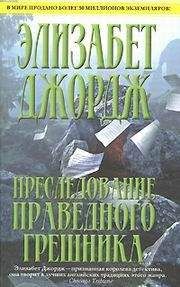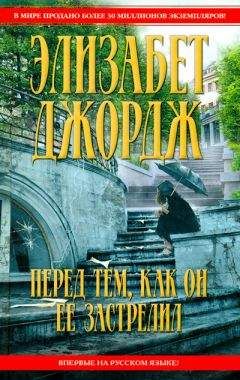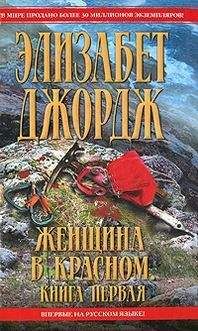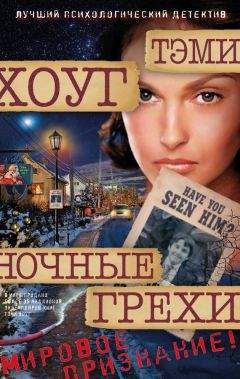Элизабет Джордж - Всего одно злое дело
– Тебя хотят видеть, и немедленно, – сказала новообращенная.
Душа сестры Доменики Джустины закружилась у нее в груди, как голубка в лазурном небе. Она уже многие годы не была в священном здании монастыря, с того самого дня, когда узнала, что ей не разрешается жить среди добрых сестер, которые проводили там свою земную жизнь в полной безгрешности. Ей позволялось только входить на несколько шагов в кухню на pianoterra. На пять шагов от двери до громадного деревянного стола, где Доменика оставляла для монахинь то, что собирала в саду, что делала из овечьего молока или что получала от курочек. И даже туда она могла входить только тогда, когда на кухне никого не было. То, что Доменика знала именно эту монашку, которая позвала ее, было случайностью. Просто она видела, как та приехала вместе с родителями в один из солнечных летних дней.
– Mi segua[268], – сказала новообращенная Доменике и повернулась, уверенная, что та выполнит ее приказание.
Сестра Доменика Джустина сделала так, как ей велели. Она бы хотела смыть грязь с рук и, может быть, поменять одежду. Но быть приглашенной в монастырь – а ведь именно это должно было произойти, ведь правда? – было даром свыше, от которого она не могла отказаться. Поэтому Доменика отряхнула руки, сняла полотняный фартук, сжала в руке розовый шип, спрятанный в кармане, и пошла за монахиней.
Они вошли через величественные парадные двери – несомненно, еще один подарок Доменике и, кроме того, добрый знак. Они прошли туда, где раньше располагалась громадная soggiorno[269] виллы, стены которой возносились к купольной фреске; на последней прекрасный бог Аполлон мчался на своей колеснице по лазурному небу. Все остальные настенные фрески были давно закрашены белой краской. А большие, покрытые шелком divani, на которых раньше располагались гости виллы, давно были заменены на простые деревянные скамейки, ровными рядами расставленные перед таким же скромным и грубо вырезанным из дерева алтарем. Он был покрыт тонкой накрахмаленной тканью. На ней стояла изысканная золотая дарохранительница с единственной свечой, стоящей в подсвечнике из красного стекла. Свеча в красном означала, что Святые Дары находились в алтаре. Перед ним они преклонили колени.
В воздухе витал незабываемый аромат ладана, аромат, который сестра Доменика Джустина не вдыхала уже многие годы. Она обрадовалась, когда монашка велела ей ждать перед алтарем; кивнула, встала на колени на твердые каменные плиты пола и перекрестилась.
Доменика поняла, что не может молиться. Ведь надо было увидеть и испытать столько всего нового. Она попыталась успокоиться, но ее волнение было слишком сильным, и оно заставляло ее смотреть по сторонам, пока женщина впитывала в себя то место, где ее оставили.
Молельня была темной, ее окна закрывали жалюзи и решетки. Большие двери, ведущие в loggia на заднем плане виллы, и за алтарем были обшиты досками и занавешены вышивками, сделанными руками женщин, живущих в этом монастыре. На вышивках были изображены сцены из жизни святого Доминика – его имя носил орден, к которому принадлежали монахини, и деяния именно этого святого они прославляли в своих вышивках.
Коридоры вели направо и налево из молельни, и по ним человек мог попасть в самое сердце монастыря. Сестра Доменика Джустина умирала от желания пойти по одному из них, но осталась на месте. Повиновение было одним из ее обетов. Это было еще одно испытание, и она его выдержит.
– Vieni, Domenica[270].
Приглашавший ее голос был не громче шепота, и на секунду сестра Доменика Джустина подумала, что с ней говорит сама Святая Дева Мария. Но рука, положенная ей на плечо, означала то, что у голоса есть тело, и, подняв глаза, женщина увидела древнее, покрытое морщинами лицо, почти полностью скрытое в складках черной вуали.
Доменика встала с колен. Старая монахиня кивнула и, спрятав руки в широкие рукава своей накидки, повернулась и направилась в один из коридоров. Его вход закрывала тончайшая резная деревянная решетка, но она открылась от легкого прикосновения, и скоро Доменика и ее сопровождающая шли по длинному белому коридору с закрытыми высокими дверями по одной стене и закрытыми окнами по другой. Несколько шагов привели их к одной из дверей, в которую vecchia[271] тихонько постучала. За дверью кто-то ответил. Старая монашка жестом показала Доменике, что та может войти, и когда она это сделала, дверь бесшумно закрылась за ней.
Она оказалась в просто обставленном офисе. Скамеечка для коленопреклонения стояла перед статуей Непорочной Девы, которая с любовью смотрела на всякого, кто хотел помолиться у ее ног. В нише на противоположной стене стоял святой Доминик, простирающий руки в благословении. Между двумя плотно закрытыми окнами стоял пустой стол. За столом сидела женщина, которую сестра Доменика Джустина встречала только два раза в жизни: она была настоятельница монастыря и смотрела на Доменику с такой серьезностью, что та поняла: наступает самый важный момент – момент ее посвящения.
Доменика никогда не испытывала такой радости. Она знала, что эта радость изливается с ее лица, потому что чувствовала: все ее тело было переполнено ею. Она была ужасной грешницей, но теперь, наконец, была прощена. Она полностью приготовила свою душу для Бога, и не только свою.
Долгие годы Доменика каялась в своих грехах. Она старалась показать Богу, через свои поступки, что понимает, сколь они тяжелы. Молиться, чтобы ее неродившийся младенец – ребенок ее собственного кузена Роберто – исчез из ее тела так, чтобы ее родители никогда не узнали, что она носила его под сердцем… И эта молитва была исполнена в ту самую ночь, когда ее родителей не было дома… И в этот момент Роберто был рядом, чтобы избавиться от того, что было с такой болью исторгнуто из ее тела там, в темноте ванной комнаты…
Это существо было живым. Полностью сформированным и живым, но даже в этом чувствовалась рука Господа. Потому что пять месяцев, проведенные в ее теле, не давали ему возможности жить без посторонней помощи, а эта помощь не была пожалована. Или, по крайней мере, так считала Доменика, потому что Роберто взял и избавился от него. Она не знала, было ли оно мальчиком или девочкой. Она не знала… до тех пор, пока все не изменилось, пока Роберто все не изменил.
Сестра Доменика не понимала, что говорит все это вслух, до тех пор, пока мать-настоятельница не встала из-за стола. Она оперлась на него – белые костяшки ее пальцев составляли резкий контраст с цветом стола – и проговорила:
– Madre di dio, Domenica, Madre di Dio[272].
Итак, теперь все было понятно. Ее ребенок не умер, потому что Господь действует методами столь удивительными, что всем нам, его скромным слугам, не дано их даже понять. Ее кузен вернул ее ребенка под ее защиту, чтобы она защитила его от возможных бед, и именно это она, сестра Доменика Джустина, делала до того момента, когда Господь забрал к себе отца ребенка в ужасной аварии в Апуанских Альпах. А она – сестра Доменика Джустина – осталась, чтобы постараться понять, что же все это значит. Потому что, помимо удивительных, Господь использует и непостижимые методы, и человеку приходится страдать, чтобы понять то послание, которое содержится в Его поступках.
– Мы все должны доказать свою любовь к Господу, – заключила сестра Доменика Джустина. – Девочка спросила меня о своем отце. Господь направил меня. Ведь только выполняя Его волю – несмотря на все трудности – можем мы получить то полное прощение, которого жаждем.
Она перекрестилась и улыбнулась, почувствовав наконец просветление, благословенная Богом прийти в это святое место.
Мать-настоятельница почти не дышала. Она дотронулась до золотого перстня на пальце, знака ее сана. Дотронулась до распятия на этом перстне, как будто моля Господа дать ей силы говорить.
– Ради любви Господа нашего Иисуса Христа, Доменика, – сказала она. – Что ты сделала с этим ребенком?
Апрель, 30-е
Виктория, Лондон
– Рад, что наша полиция всегда на посту, и ты в ее первых рядах.
Барбаре Хейверс не нужно было, чтобы Митчелл Корсико называл себя. С недавних пор теноровые нотки его голоса звучали у нее в мозгу постоянно. Если бы он позвонил ей на мобильный, она могла бы не ответить. Поэтому Митчелл позвонил на коммутатор, сообщил, что обладает информацией «по делу, которое расследует сержант Хейверс», и этот блеф идеально сработал. Его соединили, она сняла трубку, рявкнула: «Сержант Хейверс», – и услышала его голос.
– Что? Что? – спросила Барбара.
– Как сказала бы моя святая мамочка, «не смей говорить со мной таким тоном», – ответил Корсико. – Она вышла из больницы.
– Кто? Твоя мамочка? Тогда тебе надо отпраздновать, правда? Я бы тоже опрокинула с тобой чарочку, но чертовски много работы.