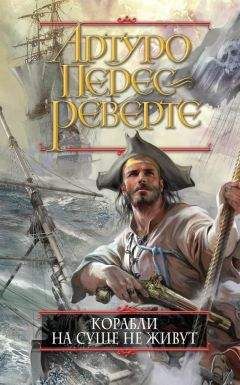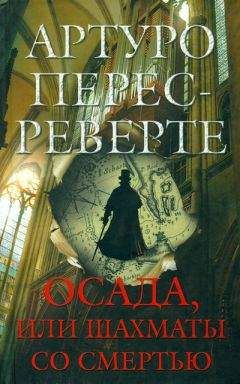Артуро Перес-Реверте - Кожа для барабана, или Севильское причастие
Он сделал несколько шагов, чтобы удалиться от журналиста, однако, к его удивлению, тот последовал за ним – точнее, пошел рядом с ним, искоса глядя на него с подобострастной и одновременно самодовольной улыбкой. Ничтожество, мысленно заключил Гавира, наконец останавливаясь: вот точное определение для этой личности.
– Я делаю репортаж, – торопливо проговорил Бонафе, прежде чем Гавира успел открыть рот, чтобы велеть ему убираться. – О церкви, которая вас интересует.
– А от меня вам что надо?
Бонафе поднял маленькую пухлую руку – ту самую, которую не захотел пожать финансист.
– Видите ли… – Его улыбка стала примирительной, – Если иметь в виду, что банк «Картухано» больше всех заинтересован в том, чтобы храм Пресвятой Богородицы, слезами орошенной, был снесен, то, полагаю, небольшая беседа или заявление… Ну, вы понимаете
Гавира бесстрастно смотрел на него:
– Ничего не понимаю. Абсолютно.
Не теряя терпения, Онорато Бонафе кратко обрисовал ему положение вещей: «Картухано», церковь, возможность использования земли, на которой она стоит. Приходский священник, несколько сомнительный тип, конфликтующий с архиепископом Севильским и находящийся под угрозой дисциплинарного взыскания или чего-то в том же роде. Две случайных – или кто их знает каких – смерти. Специальный посланник из Рима. И, гм, красавица жена, или бывшая жена, дочь герцогини дель Нуэво Экстреме, И вот она и этот священник из Рима…
Он вдруг остановился, увидев выражение липа Га-виры. Банкир шагнул к нему, глядя в упор.
– Ну, в общем, вы понимаете, – быстренько закруглился Бонафе. – Я рассказываю вам это, чтобы вы составили себе представление… Мы опубликуем всю эту историю на следующей неделе. И разумеется, ваше мнение или ваши слова были бы крайне важны.
Банкир продолжал молча смотреть на него. Онорато Бонафе решил улыбнуться, чтобы показать, как терпеливо он ждет ответа, но улыбка что-то не получилась.
– Вы, – проговорил наконец Гавира, – хотите, чтобы я рассказал вам.
– Совершенно верно.
Мимо прошел Перехиль, и при виде Бонафе в его взгляде, как показалось Гавире, промелькнула тревога. Гавира испытал мгновенный соблазн позвать его и спросить, связано ли это с присутствием журналиста на выставке, но момент был неподходящим для очных ставок. К тому же он испытывал гораздо большее искушение – пинками выкинуть этого скользкого толстяка с манерами шантажиста.
– А если я поговорю с вами, что мне это даст? Улыбка Бонафе наконец-то расцвела во всю ширь, наглая и самоуверенная. Вот это разговор, означала она.
– Ну, вы сможете контролировать информацию. Дать свою версию событий… – Бонафе сделал многозначительную паузу. – Чтобы вам было яснее – обретете сторонников в нашем лице.
– А если нет?
– Тогда совсем другое дело. Репортаж в любом случае будет опубликован, но вы упустите свой шанс.
Теперь улыбнулся Гавира, и это была улыбка Аренальской акулы.
– Это похоже на угрозу.
Журналист покачал головой: похоже, он не знал об этом прозвище.
– Да нет же, ни в коем случае. Я просто открываю свои карты. – Его свиные глазки под набрякшими веками блеснули жадным блеском. – Я играю с вами честно, сеньор Гавира.
– И почему же это вы играете со мной честно?
– Н-ну… не знаю. – Бонафе оправил полы своего мятого пиджака. – Наверное, потому, что в глазах общественного мнения вы вызываете симпатию… так сказать, ваш образ… ну, вы понимаете: молодой банкир, внедряющий новый стиль, и так далее. Вы хорошо получаетесь на фотографиях, нравитесь дамам. Одним словом, вы – товар, который хорошо продается. Вы сейчас в моде, и мой журнал может весьма способствовать тому, чтобы вы оставались в моде. Считайте это операцией по поддержанию имиджа. – Тут он придал своему лицу соответствующее выражение. – А вот ваша супруга…
– Что – моя супруга?
Каждое из этих трех слов прозвенело, как осколок льда, но Бонафе, похоже, не заметил этого сигнала надвигающейся опасности.
– Она также весьма фотогенична. – Он, не смущаясь, выдержал взгляд своего собеседника. – Хотя, думаю, этот тореадор… Ну, вы же знаете. Это уже в прошлом. А вот теперь этот священник из Рима… Вы понимаете, кого я имею в виду?
Гавира быстро соображал, взвешивая все «за» и «против». Ему нужна только неделя, а потом уже будет все равно. Цену этот тип назвал вполне ясно.
– Да, понимаю, – все еще с отсутствующим видом произнес он, – Скажите, во что, по-вашему, мне обойдется эта операция по поддержанию имиджа?
Бонафе, подняв обе ладони, соединил кончики пальцев не то молитвенным, не то благодарным жестом. Он явно испытывал облегчение и выглядел прямо-таки счастливым.
– Ну… Я, в общем-то, думал о более или менее подробной беседе касательно этой церкви. Об обмене впечатлениями. А потом… не знаю… – Он многозначительно посмотрел на банкира. – Возможно, вы захотите вложить какие-то средства в прессу.
Мимо снова прошел Перехиль, окинув обоих как бы случайным взглядом. Гавира заметил, что его помощник по-прежнему выглядит встревоженным. Снова изобразив на лице улыбку, он повернулся к Бонафе, но в этой улыбке никто не сумел бы уловить и намека на симпатию. Журналист, видимо, почувствовал это, потому что беспокойно заморгал.
– Я уже давно вкладываю средства в прессу, – сказал Гавира. – Только мне пока не приходилось иметь дело с такими людьми, как вы.
Бонафе изобразил на сальном лице сообщническую улыбку, и складки кожи его двойного – или тройного – подбородка затряслись, как желе. А Гавира, глядя на него, подумал: этот Онорато Бонафе – как раз такой мерзкий, скользкий тип, каких обычно убивают в фильмах.
– Что меня завораживает в Европе, – сказала Грис Марсала, – это ее долгая память. Достаточно войти в такое место, как это, взглянуть на какой-нибудь пейзаж, прислониться к старой стене – и на тебя разом нахлынет все. Твое прошлое, твои воспоминания. Ты сам.
– Поэтому вы так одержимы этой церковью? – спросил Куарт.
– Не только этой церковью.
Они стояли перед статуей Иисуса Назарянина с настоящими волосами и висящими вокруг нее на стене пыльными экс-вото. В глубине храма, за лесами, в полумраке, окружавшем фигуры Пресвятой Богородицы и молящихся герцога и герцогини дель Нуэво Экстремо, мягко поблескивала позолоченная резьба.
– Вероятно, чтобы понять это, нужно быть американцем, – продолжила Грис Марсала через несколько мгновений. – Там временами у тебя возникает впечатление, что все это построено чужими. А здесь – в один прекрасный день ты приезжаешь и понимаешь, что это твоя собственная история. Что ты сам, руками своих предков, клал камень на камень. Возможно, этим и объясняется то действительно завораживающее воздействие, которое Европа оказывает на многих моих соотечественников. – Она улыбнулась то ли Куарту, то ли собственным мыслям. – Ты заворачиваешь за угол – и вдруг вспоминаешь. Ты считал себя сиротой, а оказывается, что это не так. Может быть, поэтому теперь мне не хочется возвращаться.
Она стояла прислонившись к белой стене, возле чаши со святой водой. Ее седые волосы, как всегда, были заплетены на затылке в косичку, от старой темно-синей водолазки чуть пахло потом, большие пальцы засунуты в задние карманы джинсов, испачканных гипсом и известью.
– Меня несколько раз делали сиротой, – продолжала она. – А сиротство – это рабство. Память дает тебе уверенность, ты знаешь, кто ты и куда идешь. Или куда не идешь. А без нее ты предоставлен на милость первого встречного, который назовет тебя своим сыном или дочерью. Вы так не считаете? –
Она ждала, глядя на Куарта до тех пор, пока тот молча не кивнул. – Защищать память – значит защищать свободу. Только ангелы могут позволить себе роскошь быть просто зрителями.
В знак понимания Куарт сделал ни к чему не обязывающий жест. В этот момент он думал об информации, которую получил об этой женщине из Рима и которая сейчас лежала на столе в его гостиничном номере. Некоторые строчки уже были подчеркнуты красным. В восемнадцать лет вступила в религиозный орден. Архитектура и изобразительное искусство в университете Лос-Анджелеса, специальные курсы в Севилье, Мадриде и Риме. Училась блестяще. Семь лет преподавала искусство. Четыре года была директрисой религиозного университетского колледжа в Санта-Барбаре. Личный кризис, отразившийся на здоровье. Временный бессрочный отпуск из ордена. Уже три года живет в Севилье, где зарабатывает на жизнь уроками изобразительного искусства американцам. В порочащих связях не замечена, с местным отделением своего ордена поддерживает минимальные контакты. Проживает на частной квартире. О выходе из ордена не просила. О специальных занятиях информатикой сведений нет.
Куарт посмотрел на монахиню. Снаружи, на площади, свет уже становился невыносимым, как, впрочем, и жара. Слава Богу, хоть здесь, в церкви, прохладно.