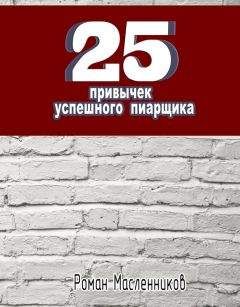Е. Мороган - Не надо преувеличивать!
— Я слышал, — продолжал свою мысль Цинтой, — от одного человека в деревне — я у него мед покупал, — что муж бил ее до полусмерти.
— Так ей и надо! Женщина, которая не слушается мужа… — подхватила Милика.
— Нет, вы не правы, мадам, Петреску просто слишком часто напивается, и тогда с ним никто не сладит, — вдруг услышала я свой голос.
— Да, я тоже об этом слыхал. Он со всеми в деревне разругался. Тот, что продает мед, рассказал мне, что месяц тому назад Петреску подрался с одним в корчме, так их еле-еле разняли. Говорят, и ножи вытащили.
— Жаль, что его здесь нет, вы бы его перевоспитали, — вмешался Барбу, протягивая стакан, чтобы Цинтой его наполнил.
— Да, товарищ Барбу, это верно. Можете пойти на ферму, где я работал, и спросить у товарищей, скольких я наставил на путь истинный, одних — словом, других…
— Делом, — закончил Барбу.
— Битье — дело святое, — говаривал, бывало, мой отец — мир праху его! — когда порол меня розгами, — вставил Мирча, решив внести свою лепту в беседу о воспитании и перевоспитании человека.
— Ну, с детьми — я согласен. Мой отец, полковник, тоже меня наказывал. Но не думаю, что в том случае, о котором упомянул господин Цинтой, этот метод — самый подходящий. Человека нужно убедить, перевоспитать трудом, иначе все кончится травмой, и он погибнет для общества… В конце концов, нельзя же отказаться от понятия сознания, иначе нас подстерегает опасность бехавиоризма, — с ученым видом заключил Алек.
— Добрый вечер и приятного аппетита!
— А, товарищ Габриэлла! Вернулись… Пожалуйте к столу. Милика, принеси еще один стакан.
— Как протекало слияние с природой нынче вечером? — проникновенно поинтересовалась Мона.
— Прекрасно, мадам! Жаль, что я не взяла с собой господина Василиаде. Вечерние упражнения — это главное в практике йогов. А он, по-моему, — такой способный… — столь же невинно ответила ей Габриэлла.
— Ну, доброго всем здоровьица! — поспешно вмешался Цинтой, правильно оценив возможные осложнения, которые этот диалог мог внести в мирную беседу.
— Ей богу, такой нежной грудинки я и в родном доме не пробовал…
Из глубины двора с веселым лаем вырвался Замбо. Последовало короткое замешательство, затем раздались слова: «… к черту такую жизнь…» и перед глазами изумленных зрителей, шатаясь, предстала какая-то тень. Сидевшие за столом смотрели на эту все более сгущавшуюся тень с удивлением, смешанным с ужасом. Наконец стало возможно различить силуэт мужчины лет сорока, плотного, коренастого и сутуловатого. Его лицо пересекали глубокие морщины, красные глаза слезились, а губы, распустившиеся в пьяной улыбке, обнажали бледно поблескивающие металлические зубы. Невысокий, человек создавал, однако, впечатление большой стихийной силы.
— … эта чертова баба! А ну, где она, я ее убью! — произнес он вместо приветствия и продолжал, все так же спотыкаясь, продвигаться к кухне, в глубь двора.
Онемев от удивления, «гости» следили за удаляющимся силуэтом. Приблизившись к кухне, человек пошатнулся и, с трудом восстановив равновесие, ввалился в освещенную дверь.
— Хозяин вернулся — заключил Барбу, единственный человек, сохранивший присутствие духа.
— Чего боишься, того не миновать. Теперь начнется цирк, — добавила я.
Последовало мгновение полной тишины, потом крупный женский силуэт метнулся из двери, подобно изгнанной из гнезда толстой курице, и целый поток ругательств нарушил вечерний покой.
— … дьявол и анафема… Думала, что избавилась от меня? Положила меня в больницу и теперь можешь делать, что тебе вздумается? Я тебе покажу, будь проклят весь твой род и все твое семя! Хозяйку разыгрываешь, да? Барыню? Все, что здесь есть, сделано моими руками. На всем в этом дворе написано: Пе-трес-ку!.. Я тебе покажу! Пусть все знают, кто здесь хозяин.
— Я пойду поговорю с этим гражданином! — воинственно заявил Цинтой.
— Не ходи, не ходи, Лика! Он пьяный, это опасно, — чуть ли не плача умоляла его Милика.
— Но ведь так нельзя! Мы, мужчины, должны принять меры. Кто со мной? — хорохорился ее супруг.
— Идите сами, товарищ Цинтой, мы побудем здесь. Если что, кричите, мы позовем милиционера, — подбодрил его Мирча.
Момент был благоприятным для того, чтобы окончательно покорить весь двор. Я направилась в кухню.
— Смелая женщина, — заметил мне вслед Мирча. — Что поделаешь? Вот так же было с одним моим знакомым: хотел развести двух драчунов, а сам разбил голову и угодил в милицию — за нарушение общественного спокойствия.
Петреску валялся на куче тряпья, представлявшей собой лежанку Дидины.
— Ну, что вы, дядя Тити, разве так можно? Только вернулись, и сразу весь двор переполошили! Если бы вы знали, как Дидина тут вас хвалила… А вы только появились — сразу напились…
Петреску глядел на меня красными глазами пьяницы… Он было осклабился, пытаясь изобрести новое скулодробительное выражение по адресу двора и тех, кто осмеливается… Но в конце концов его нежная природа победила: лицо сморщилось, на глазах появились слезы:
— Никто меня не любит… Только Замбо, только он мне сочувствует… Где ты, Замбо? Иди, иди к Тити, ты один меня любишь… Мадам Олимпия, ведь вы знаете, что я всю свою жизнь трудился, а чего добился? Я человек честный и чужих денег не брал, что бы они ни думали… Иди, Замбо, иди к папе.
Понемногу он успокоился и, больше не обращая на меня внимания, опустил голову на подушку. Я вышла, осторожно закрыла дверь кухни и приблизилась к столу:
— Готово, спит.
Все обменялись полуудивленными-полувстревоженными взглядами. Барбу налил себе еще стаканчик, отхлебнул немного коньяку, подержал его во рту и, с удовольствием проглотив, заключил:
— На боковую! Второй акт — завтра!
Словно в трансе, «гости» семейства Петреску поднялись и молча направились каждый к своей комнате. Над двором воцарилось молчание. Только Замбо тихо хрустел кусочками свежей грудинки, беря их прямо с тарелки. Одно за другим освещенные окна погасли, и над двором повисла глубокая тишина, время от времени нарушаемая лишь отдаленным лаем собак, которым Замбо отвечал коротким рычанием.
Деревня спокойно спала, убаюканная луной. Двор супругов Петреску был погружен в глубокую тишину. Только огромные, волосатые ночные бабочки бились о стекло забытой лампочки. Молчание…
Резкий крик, захлебнувшийся в хрипе, нарушил тишину, и в следующую же минуту двор наполнили сонные привидения в самых разнообразных облачениях — от полосатых пижам до длинных шуршащих пеньюаров.
— Какого черта? Что случилось?
Новый вопль разогнал остатки сна:
— Помогите! Убивают!
Последовали звуки, свидетельствующие о том, что человек задохнулся и упал, затем хрип и какое-то протяжное бормотание, что-то вроде раскатов грозы, то приближающихся, то удаляющихся.
— Петреску бьет Дидину, — с достойной зависти флегматичностью прокомментировал Барбу.
— Сделайте же что-нибудь, ведь вы мужчины! — раздался женский голос.
— Нет уж, лучше нам переждать. Ну, бьет он ее — кому какое дело? Зачем нам вмешиваться в их семейную жизнь? — решил Мирча.
— Но он ее убивает, не слышите?
— Кто кого убивает, господа? Что случилось? — возник в окне едва продравший глаза Димок.
— Вот идите и покажите этому пьянице!
— Какому пьянице, люди добрые?
— Муж Дидины явился.
— Ну и на здоровье. — Нае втянул голову в комнату.
Последовал новый вал толчков, шлепков и коротких, прерывистых вздохов — человек трудился не на шутку.
— Раз кричит, значит, не умерла, — заявил Барбу, удаляясь.
— Нет, это невиданно! Только у этих, в США, я слыхал, еще такое бывает: бандиты вас убивают, а граждане смотрят… Мы обязаны принять меры! — волновался Панделе.
— Бросьте, товарищ Цинтой, Дидина — женщина не промах ей палец в рот не клади.
В самом деле, военное счастье перешло, казалось, на другую сторону: дверь кухни распахнулась, и при свете лампочки в ней возникли две фигуры, сцепившиеся, словно в каком-то гротескном танце — шаг вперед, два шага назад… Более длинный силуэт мужчины пошатнулся, женщина, более плотная, споткнулась, упала, дала ему снизу толчок, и мужчина свалился. Дверь захлопнулась. Раздался скрежет ключа.
Зрители ждали, не смея перевести дыхание. Темная фигурка у дверей встала на четвереньки, потом, держась за ручку, поднялась во весь рост.
— … черт возьми тех, кто тебя породил… убью, чтоб тебя!..
Какое-то время он трудился над ручкой двери, время от времени стучал в нее кулаком, наконец, пошатываясь, отошел.
— Иди сюда, Замбо… — голос был хриплым и злобным. — Ты все трудишься, бедняга, сторожишь двор… Пью, видите ли, много… Ну и что же с того? На свои пью, не на чужие. Я всю жизнь работал. Все, что здесь есть, сделано моими руками… Возмущаюсь я, потому и пью… А ты оставайся здесь, на своем посту.