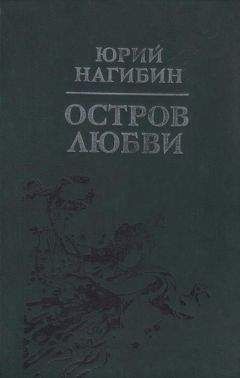Шарль Эксбрайя - Оле!… Тореро!
– Мадре де Дио![32] Ты!…
– Луис… как я рад тебя опять видеть.
– И я!
Мы обнялись.
– Скажи, Эстебан, откуда ты взялся в такое время? Это же чудо, что мы не прошли друг мимо друга в такой темноте!
– Это не совсем так. Я целый вечер просидел в кафе позади тебя.
– Черт возьми! И ты ко мне не подошел?!
– Я не решался.
Конечно же я солгал, но эта ложь сейчас была необходима.
– Прошло столько времени… Я не знал, будешь ли ты рад меня видеть. Ведь мы расстались не в лучшие времена…
– Эстебан… Мы знали и любили друг друга задолго до этих времен. А что ты делаешь в Альсире?
– Как тебе сказать… Просто я ходил по Валенсии и вдруг увидел автобус с табличкой "Альсира". Мне захотелось с тобой поговорить. Но я не знал, где ты живешь, и зашел в кафе, чтобы спросить адрес. Потом ты сам туда зашел. Вот и все.
– Если я правильно понял, Эстебан, ты никогда не собирался к нам приезжать, и если бы не этот случайный автобус…
Когда он произнес "к нам", мое сердце забилось быстрей.
– Ты остановишься у нас. Твои вещи с тобой?
Я показал ему маленький чемодан.
– Ты не занят в ближайшие дни?
– Вроде бы нет.
– Тогда останешься у нас погостить подольше…
– Но…
– Прошу тебя, Эстебан!… Этим ты окажешь мне большую услугу…
– Услугу?
И тогда он со вздохом признался:
– Мне здесь очень тоскливо…
* * *
Усадьба Луиса, как я и предвидел, находилась на склонах сьерры Мурта. Его автомобиль с открытым верхом легко брал подъемы, и незначительный шум мотора ничем не тревожил покой ночи, которую северяне непременно приняли бы за весеннюю. В поездке мы не обменялись ни единым словом. Очевидно, нам нужно было слишком много сказать друг другу, и никто не знал, с чего начать. Я не решался расспрашивать его о Консепсьон, боясь выдать свое волнение, Луис же, несомненно, был занят мыслями о своей неудавшейся жизни. Мы почти подъехали, когда он спросил меня с деланным безразличием:
– Ты, по-прежнему, занимаешься корридой?
* * *
В страшном волнении я встал, увидев, что Консепсьон входит в приемную нижнего этажа, оформленную в крестьянском стиле. Она же сразу меня узнала и сказала, словно мы расстались накануне:
– Добрый вечер, Эстебан. Рада тебя видеть у нас.
– Добрый вечер, Консепсьон… Да пребудет с тобой Господь…
Луис рассказал о нашей встрече. Консепсьон оказалась менее доверчивой, чем он. С иронией она спросила:
– Это правда, Эстебан, что ты боялся приехать к нам?
Ее муж попытался перевести все в шутку:
– С тех пор, как дон Эстебан стал мадридцем, он больше не думает о своих друзьях из провинции. Мне кажется, он попросту забыл о нас!
Консепсьон внимательно посмотрела на меня и отчетливо выговаривая слова произнесла:
– Не думаю… Эстебан не из тех, которые забывают…
Была ли она искренней? Я слишком мало знал женщин, чтобы правильно ответить на этот вопрос. Поэтому я предпочел обратиться к Луису.
– Я больше не живу в Мадриде… С января я в Триане.
– Вот это да!
Не глядя на Консепсьон, я объяснил:
– Я уже не юноша, Луис, а ты ведь знаешь, что одинокий старый зверь всегда возвращается подыхать в места, где родился.
Они оба рассмеялись: Луис - чтобы подтвердить полное доверие моим словам, Консепсьон - чтобы скрыть свое смущение. Она спросила:
– Ты вернулся к матери?
– Да, но только ее уже больше нет с нами…
Перекрестившись, она прошептала:
– Мир праху ее…
Чтобы разрядить сгущавшуюся атмосферу, я добавил:
– Но зато я вновь обрел то, что ближе всего моему сердцу,- Гвадалквивир.
Вальдерес, чтобы сменить тему разговора, обещавшего стать не совсем приятным, торжественно объявил:
– Знаешь, Консепсьон, Эстебан останется у нас на несколько дней. Мы покажем ему все самое интересное, и он, быть может, признает, что Триана - не единственное место на земле, где можно жить.
Несмотря на всю свою выдержку, Консепсьон не смогла полностью скрыть удивления. Я чувствовал, что ее будет гораздо труднее убедить в бескорыстных целях моего визита, чем ее мужа.
Конец вечера прошел спокойно. После ужина, за которым нас обслуживала красивая девушка, которую легче было представить с кастаньетами в руках, чем накрывающую или убирающую со стола, мы перешли к кофе. Когда пришло время ложиться спать, я встал, и Консепсьон вызвалась показан, мне мою комнату.
– Надеюсь, тебе здесь понравится?
– Я не привык к такому уюту, если ты еще помнишь Триану…
Опустив голову, она просто сказала:
– Я не забыла Триану… Спокойной ночи. Эстебан.
– Спокойной ночи, Консепсьон.
Я почувствовал, что она хотела еще что-то сказать, но не решалась. Только выходя из комнаты, она задала вопрос, который ее мучил:
– Эстебан, зачем ты приехал?
Луис, показавшись на пороге, чтобы посмотреть, как я устроился, избавил меня от необходимости солгать ей.
* * *
Мне плохо спалось. Мысль о том, что Консепсьон совсем рядом, была одновременно и радостной, и невыносимой. Моя привязанность к той, которая предала меня, имела привкус горечи: помимо воли, мне становилось обидно за ее счастье и за то, что она не испытывала ни малейших угрызений совести из-за того, что по ее вине моя жизнь была сломана и исковеркана. Удивительно, но я был больше настроен против Консепсьон, чем против Луиса. В конечном счете, он поступил так, как поступил бы любой другой мужчина, ухаживая за понравившейся ему девушкой. Мои мрачные мысли развеялись только тогда, когда со двора послышался голос Консепсьон, что-то приказывающей слугам. Я опять был счастлив, благодаря своей чистой и нежной привязанности.
Солнце Левантии[33] уже заливало золотом эту благодатную землю. Я нашел Консепсьон в саду, где она поливала цветы. Какое-то время мы не могли найти темы для разговора, и, чтобы прервать это молчание, она наконец сказала:
– Видишь, Луис занимается апельсинами, а я довольствуюсь своими цветами и встаю так рано только из-за них. Ты обратил внимание, какое жаркое здесь солнце уже с самого утра…
– Ты ведь привыкла к этому… Помнишь, когда мы гуляли там, на берегу Гваделквивира, и не обращали внимания на жару!
Она не сразу ответила, а когда стала говорить, ее голос слегка дрожал:
– Неужели ты так и не простил меня?
– Сердцу невозможно приказать… А где Луис?
Она подошла ко мне и прикоснулась к руке. Я сделал шаг назад:
– Не прикасайся ко мне!
Я увидел, что ее глаза наполнились слезами.
– Ты меня ненавидишь, Эстебан?
Ненавижу! Да больше всего на свете мне хотелось обнять и прижать ее к себе!
– Зачем ты вернулся?
– Чтобы увидеть тебя…
Она долго смотрела на меня, прежде чем сказать:
– Я не верю тебе, Эстебан…
– По-моему, ты впервые сомневаешься во мне, Консепсьон.
– Я впервые боюсь тебя.
Отчужденные, мы стояли друг перед другом… Да, она не без оснований опасалась меня.
– Счастье тебя очень изменило, Консепсьон. Раньше ты никогда не сомневалась в моих словах.
Она невесело улыбнулась:
– Счастье? Бедный Эстебан… Знай же, если тебе будет от этого легче, что я очень несчастна. Луис совсем не такой, как я думала. Он безвольный и мягкотелый эгоист, забывающий обо всем, что его смущает или заставляет задуматься… Например, о Пакито, который им всегда восхищался.
Я понял, что она ничего не забыла, так и не простив Луису смерти того, кого считала своим сыном. Не простила она, конечно, и меня. Но к чему скрывать,- я испытал какое-то мрачное удовлетворение, узнав, что Луис не пользуется любовью той, которую он у меня отнял.
– Консепсьон, где Луис?
– Иди по дорожке за хлевом и найдешь его…
Я долго шел среди апельсиновых деревьев, не встречая ни единой живой души. И вдруг, выходя из затененной впадины между плантациями, я увидел столь неожиданную сцену, что поначалу не поверил своим г лазам. Вверху, надо мной, танцевал человек, и отсутствие музыки превращало этот танец в какую-то галлюцинацию. Я узнал в нем Луиса. Ступая как можно тише, я укрылся за апельсиновыми деревьями, стоявшими в нескольких метрах от бывшего тореро, не подозревавшего о моем присутствии. Со своего места я видел его в профиль, и меня сразу же поразила высоко поднятая голова, неподвижность взгляда, напряжение мышц. Я все понял! Луис Вальдерес в этом удаленном от глаз людей уголке земли, прислушиваясь к несуществующей музыке, выступал для самого себя. Насколько же сильно он оставался во власти корриды! Мне даже слегка сдавило горло. Я почувствовал неловкость, поняв, что проник в тайну, не принадлежащую мне. Вдруг, словно услышав звук трубы,"Очарователь из Валенсии" приподнялся на носках, протянул в приветствии к солнцу свою кордобскую шляпу с прямыми жесткими полями, потом швырнул ее в траву и продемонстрировал такую великолепную фаэну, какой я никогда прежде не видел. Сражаясь с невидимым противником, Луис давал такое блестящее сольное представление, о котором мог бы помечтать каждый матадор. Безо всякой спешки, соизмеряя все движения, он выискивал самые трудные и исполнял их с такими живостью и скоростью, которые вызвали бы восхищение самой скептической публики. С блеском он демонстрировал обыкновенный проход, проход слева по кругу, проход у груди, проход камбиада снизу вверх, классические проходы, к которым он прибавил, словно вдохновенный артист, прелесть народных: молинете, афораладо, манолетину[34]. Своего предполагаемого быка он убил способом, заимствованным у матадоров прежних времен, а именно: вызывая опасность на себя и эффектно убивая мчавшегося прямо на них быка. Еще я увидел, как Луис наблюдал за агонией своего соперника, а затем мелким шагом прошел вокруг воображаемой арены, отвечая на предполагаемые крики восхищения. Я удалился прежде, чем он завершил свой круг почета, вышел на верхнюю дорогу и только оттуда позвал его. Луису потребовалось некоторое время, чтобы вернуться к реальной жизни.