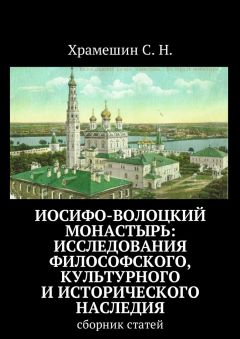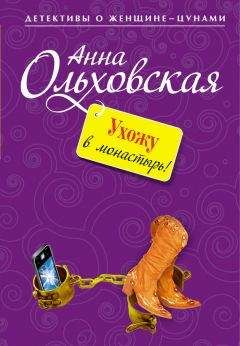Василий Казаринов - Ритуальные услуги
— Ну е ж мое! — провозгласила Люка неожиданно бодрым, здоровым тоном, и в ее интонации я уловил нотки типичного для знакомой мне по прежним дням хозяйки похоронного бизнеса азарта. — Сукин ты, Паша, сын, но с тобой нескучно! Ладно, утро вечера мудренее, что-нибудь придумаем... — Она с кошачьим каким-то проворством переменила позу, уперлась мне в грудь руками, перекинула ногу через мое бедро и так застыла, забросив голову назад, начала медленно сгибать ноги в коленях, тихо охнула в момент нашего соприкосновения и плавно опустилась вниз и с этого момента воплотилась в образ какой-то буйно, но при этом весело помешанной ведьмы, отплясывающей замысловатый экстатический танец, и не унималась уже всю ночь, изобретая все новые и новые пластические формы наших слияний — за исключением той одной-единственной, что была нам обоим так хорошо знакома, но в эту безумную ночь оказавшейся по молчаливому согласию под строгим запретом.
Очнувшись от дремотного забытья, я приподнялся, поглядел на нее. Она спала в не слишком, как мне показалось, ловкой позе, откинувшись на высокую подушку, — еще не лежа, но уже и не сидя — и немо шевелила губами, слабо улыбаясь какому-то образу своего сновидения, и безмолвные ее шепоты были обращены прямо к прояснившемуся от света лику в скромной иконке.
Какое-то время я молча наблюдал за ней и вдруг начал чувствовать, как в смутном еще со сна сознании немые эти движения Люкиных губ и плоский лик какого-то святого вдруг начинают тянуться друг к другу, сближаться и наконец, слившись, переплетясь, обретают устойчивую форму простой и ясной мысли.
— А ведь это в самом деле мысль, — тихо выдохнул я.
— Что? — сонно зашевелилась рядом Люка.
— Ничего, спи.
Я вдруг подумал о скромном безмолвном растении, что в этот момент уже, видимо, распустилось на моем кухонном подоконнике и сидит там, обхватив колени руками, смотрит во двор, где кто-то беседует между собой, предположим, женщина-почтальон и один из жильцов нашего дома, она не слышит их, но видит и все понимает, потому что ей ведомо искусство чтения по губам.
5
Поначалу думал было взять ее с собой, но по здравом размышлении эту сомнительную мысль отверг, вспомнив, что у нас в офисе есть хорошая профессиональная камера — на тот случай, если кому-то из близких покойного придет на ум запечатлеть на пленке церемонию похорон. Прихватив на всякий случай и тяжелый штатив, я погрузил аппаратуру в багажник Люкиной "субары" и погреб в направлении храма.
Принимавший пожертвования монах стоял на своем месте у ворот — в прежней мертвой позе, как будто и не покидал свой пост с того самого дня, когда я кощунственно поинтересовался у него, как идет торговля индульгенциями.
Брат Анатолий огромной метлой ласкал каменные плиты церковного двора — с широким замахом, в тупой ритмичной монотонности деревенского косца подсекая под корень парящий низко над землей тополиный пух, жесткое охвостье метлы издавало шершавые звуки, от которых по спине побежали мурашки. Завидев меня, он оставил свои труды, утер широким рукавом рясы вспотевший лоб и улыбнулся.
— Хороший денек, — сказал я, глянув на небо, затянутое мутноватой пленкой облачности, низкой и рыхловатой, голубовато-серой и скользкой, фактурно напоминавшей верхний слой жидкой простокваши.
— Да, — кивнул Анатолий. — Хорошо. Мы все немного устали от открытого солнца.
— Хорошо, — согласился я, подумав о том, что в этом наблюдении есть немалый смысл: оконное стекло не будет сильно бликовать. — У меня к тебе одна просьба. Я был бы тебе признателен, если б ты разрешил мне побыть в твоей келье. Ну там, на втором этаже. Что узким окном выходит в соседний дворик.
Он удивленно приподнял жидкие брови и потерся щекой о длинный черенок метлы, на которую опирался.
— Это в самом деле так для тебя важно?
— Более чем.
Он раздумчиво покачал головой и кивнул в сторону пристройки — пошли! Мы миновали коридор, в конце которого темнела сумрачная ниша, скрывавшая лестницу, поднялись на второй этаж, оказались в точно таком же коридоре, ослепительно белостенном. По левой его стороне, в притененных лунках глубоких ниш, темнело несколько тяжелых, окованных медными пластинами, дверей. Толкнув одну из них, брат Анатолий пригласил меня входить. Это был сумрачный, с низким сводчатым потолком, каменный каземат, обстановка которого своей аскетичностью напоминала тюремную: жесткая койка по правой стене, маленький стол, табуретка при нем — и разве что образа в углу, в приглушенно поблескивавших праздничных ризах слегка разбавляли мрачное впечатление от убогого монашеского жилища.
— Ну вот, располагайся, — сказал Анатолий. — Бог в помощь. Я пойду, у меня дела.
— Это тебе — Бог в помощь, — отозвался я, нагружая интонацией местоимение, потому что толком не знал, кого мне следовало призывать в союзники, светлоликого Всевышнего или его вечного антипода, косматого, в густой шерсти, парнокопытного, с желчной иезуитской ухмылкой на тонких губах, ведь ни в того, ни в другого не верил — точнее сказать, привык относиться к обоим с достаточной степенью равнодушия, поскольку оба находились вне растительного мироощущения, которому присуща вера исключительно в таинство действительного мига, все движения, голоса и запахи которого хороши именно тем, что происходят и присутствуют здесь и сейчас, а что за этим мигом воспоследует — дело десятое.
"В вас, Павел, угадывается мучительная раздвоенность..." — говорил в момент нашей прошлой встречи Анатолий, и он как в воду глядел: привычка жить мгновением в самом деле раздваивает, приучает воспринимать себя прошлого как существо чужое и даже чуждое и воспитывает прохладно отстраненный взгляд на себя и обыкновение обращаться к себе как к постороннему, на "ты".
— Я догадывался, Павел, что вы закоренелый язычник, — скорбно произнес Анатолий, уловив в моих глазах настроение кощунственной смуты. — Но Господь милостив.
Он тихо прикрыл дверь, и я тут же занялся делом, штатив с камерой установил ближе к двери, с тем расчетом, чтобы аппаратура растворялась в сумрачных глубинах каземата и была незаметна при взгляде извне, заглянул в видоискатель, настроил трансфакатор, увидел прямо перед глазами круглую, обтянутую кожей пупочку и лишь спустя некоторое время догадался, что в поле притяжения телевика оказался одни из элементов обшивки кожаного дивана, стоявшего по левую руку от входа в кабинет Астахова. Я повел камеру вправо. Показалась рука, запястье которой было окольцовано золотым браслетом часов, внешне скромных, но, видимо, очень дорогих. Тускло блеснул перламутр запонки. Рука двинулась наверх, исчезая из поля зрения. Направив объектив ей вдогонку, я увидел, как палец поглаживает уголок тонкого рта, форма которого была мне знакома: стало быть, хозяин кабинета был на месте. Увеличение такого масштаба мне было ни к чему, поэтому я подстроил трансфакатор с тем расчетом, чтобы расширить пространство кадра, захватывая весь диван целиком.
Астахов сидел, закинув ногу на ногу, потом глянул на часы и, повернув лицо в сторону двери, что-то произнес. Вошел Сухой, прошелся по кабинету, заложив руки за спину, уселся справа от Астахова и начал произносить какую-то пространную реплику. Я включил камеру и с этого момента уже не отрывал глаза от видоискателя, стараясь ловить в объектив движения их немых губ, жесты, оттенки мимических рисунков, проступающие в их лицах, — палитра этих рисунков была не слишком разнообразной, за исключением одного момента. В ответ на какой-то вопрос собеседника Астахов некоторое время скорбно молчал, опустив глаза и поглаживая уголки рта, как будто собираясь с духом, потом с тяжелым вздохом что-то произнес, а Сухой покачнулся, словно реплика Астахова пробила его грудь навылет, откинулся ни спинку дивана, потеряв дыхание, лицо его побелело, сделавшись совершенно неподвижным и мертвым, и мне показалось, что чья-то прозрачная невидимая ладонь проводит по его лицу, опуская веки.
Он пребывал в призрачном загробном мире никак не меньше полутора-двух минут, потом дрогнули сухие веки, приподнялись, открывая глаза, в которых прежнее — слегка насмешливое, утепленное иронией — выражение сменилось каким-то совершенно новым, антарктически прохладным, как будто зеницы его только что окунулись в полынью и, выплыв на поверхность, подернулись слюдой тонкого ледка. Он поднялся с дивана, подошел к окну и пошевелил все еще мертвыми губами.
Астахов кивнул.
Сухой опять слабо двинул губами, сложив их в формы только что изреченной фразы, поднял взгляд, некоторое время молчал и, глядя, как мне померещилось, мне прямо в глаза, отчетливо и жестко артикулируя, произнес что-то такое, отчего у меня очень внятно и мучительно заныло в плече.
Потом он вернулся на место, уселся рядом с Астаховым. Они продолжили разговор и вели его еще в течение минут десяти, наконец Сухой зябко повел плечами, перекрестил кабинет медленным взглядом, поднялся, сухо кивнул хозяину офиса и удалился, а тот, сокрушенно покачав головой, произнес короткую фразу, смысл которой мне слишком хорошо был знаком, потому что она частенько вспухала на губах Люки — в том случае, когда ей приходило на ум сделать мне дружеский комплимент: