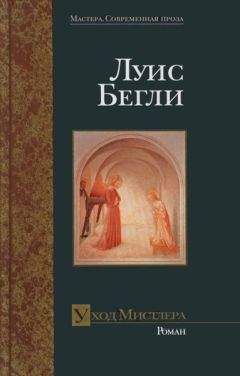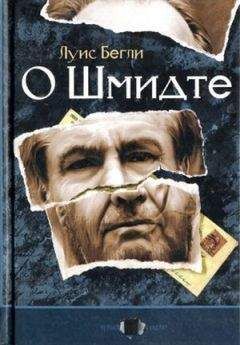Рауль Мир-Хайдаров - Ранняя печаль
Но в памяти всплывало не только светлое. И слишком много припоминалось смертей...
Под колесами поезда погибли и Халил, правнук слепой старухи Мамлеевой, и детдомовец Ефим Ульман, и мальчишки, не поделившие самоварный уголь. И, уносясь мыслями в прошлое, пытаясь отыскать там светлые картины, связанные с рекой, лесом, степью, Рушан вновь и вновь возвращался памятью в Мартук.
Вспомнилось еще одно возвращение домой, уже после смерти отчима, которого он все-таки успел назвать отцом. В тот раз сосед-комбайнер, за высокие урожаи последних лет получил на ВДНХ персональную "Волгу" и, узнав, что Рушан собирается наведаться в Оренбург, предложил ему обкатать новую машину в дороге. Эта поездка надолго запала в сердце, хотя до Оренбурга он так и не добрался, и на то была своя причина.
Мартук выходил окраинами к лесополосе, вдоль которой тянулась дорога на Оренбург. Эта лесополоса, высаженная на его памяти, когда он пошел в школу, теперь превратилась в настоящий лес. Конечно, не такой буйный и неоглядный, как в глубине Сибири или Белоруссии, но для степного края -- действительно лес. В пору его юности, когда деревья только-только поднялись, никаких там зверушек, птиц, кроме воронья, воробьев и кукушек не водилось. Помнится, кто-то хвастался в школе, что видел там ежа, но ему тогда никто не поверил.
А сейчас, говорят, и зайцы, и лисы, и волки, барсуки, бурундуки, даже кабаны и сохатые появились. А ведь никто специально не заселял ими лес --появились, и все, загадка природы...
Лес, кажется, тоже изнывал от жары в то лето. Сухо шелестела листва деревьев, вставших стеной у дороги, сдерживая знойный суховей из бескрайних казахских степей. Не слышно было даже птичьего гомона -- тишина, ожидание вечера, прохлады, жизни. Рушан неожиданно припарковал машину на опушке и прошел в глубину чащи, нашел чистую поляну, глянувшуюся ему зеленой, нетоптаной травкой, и, сбросив спортивную куртку, присел на кочке.
Далеко впереди, разъезда за два-три, послышался шум поезда. Это был не грохот приближающегося состава, а удивительно чистый, ритмичный звук, растворенный в необъятной шири и тишине, какой слышат только там, где люди живут на больших просторах, где впереди у летящего состава десятки и десятки километров свободного пространства, не загроможденного строениями вдоль дороги. И этот волнующий звук, от которого щемит сердце у каждого жителя маленьких местечек, ибо с дорогой связаны там все тайные, несбывшиеся мечты и робкие надежды, сеял в душе ожидание смутных, неясных, но радостных перемен.
Звенящая тишина чащи, ровный гул приближающихся и удаляющихся поездов, словно вибрирующий в огромном, многоствольном органе леса, настраивали Рушана на воспоминания, большей частью грустные: о робком отрочестве, неуверенном и бедном студенчестве в городе, где ребят, таких, как он, выходцев из маленьких местечек, подобных Мартуку, долго, почти до выпуска, называли колхозниками. Одни вкладывали в это слово понятное только им пренебрежение, имевшее различные оттенки, вплоть до презрения, другие бросали просто так, по привычке, следуя плохой традиции, но и в том, и в другом случае было обидно.
Помнится, после первого курса он как-то поделился этим с отчимом, но рассказал очень путано, краснея и сбиваясь. Однако Исмагиль-абы понял. Он внимательно посмотрел на Рушана и, часто поглаживая усы, что делал обычно, когда был сердит и недоволен, спокойно ответил: "Тут уж, сынок, никто вам не поможет. Джигиту, настоящему джигиту, оскорбительного никто и никогда не скажет. Просто вы еще никто. Салаги вы... -- И добавил: -- Ни место, ни год рождения, ни национальная принадлежность не дают никаких гарантий, особого мандата в жизни. Все в себе человек должен воспитать сам, и только делом утверждается человек на земле, а отсюда и отношение к нему, а значит, и к месту, и году рождения, и даже к его национальности..."
Тогда, от растерянности, робости перед силой и убежденностью Исмагиля-абы, который не то переспросил, не то произнес специально для него вслух "колхозник", и прозвучало это почти как его фамилия "Дасаев", -- Рушан скорее смутился, чем понял отчима...
Долго посидеть в лесополосе не удалось -- дорога звала вперед. Уже за Сагарчином, ближе к Кувандыку, когда до Оренбурга оставалось рукой подать, впереди показался мост, весь в строительных лесах, -- видимо, в половодье повредило фермы, -- и Дасаев сбавил скорость. В приоткрытое окно ударил близкий запах воды и напомнил Илек -- реку его детства. Рушан осторожно переехал мост и невольно притормозил.
Впереди, насколько хватало глаз, змеилась в зеленых берегах тихая утренняя река. Медленно несла она свои воды, журча на перекатах, кружась и темнея в редких затонах, шелестя молодой осокой на заболоченном мелководье. Тонкий, едва заметный пар, словно туман, поднимался кое-где над водой, а с высокого берега тень многолетних вязов темным зонтом перекрывала жемчужную полосу воды. Низкий берег, покрытый густым тальником, переходил в луга, --видимо, широко по весне разливалась река. И пойма эта, повторяя изгибы реки, тоже уходила далеко, но конец ее Рушан все-таки видел.
В лугах недавно прошел первый укос, тут и там стояли небольшие копны сена, а трава уже снова пошла в буйный рост, -- близость и щедрость реки чувствовались. Вокруг было тихо, безлюдно, лишь вдали, как и в Мартуке, слышался шум далеких поездов, и звук этот над просыпающейся рекой будил в душе отрадные, чистые воспоминания.
Глядя на раскинувшиеся внизу луга, Рушан видел, как в детстве, ночное, костры, стреноженных коней, шаловливых жеребят, слышал храп знаменитых скакунов и нетерпеливое ржание кобылиц в ночи. Только не мог ясно представить мальчишек из соседних казачьих станиц и татарских аулов, для которых луга, наверное, были общими, -- слишком мала река, чтобы одаривать людей лугами и полями по национальностям.
Нет, не мог он представить мальчишек транзисторно-магнитофонного поколения в тихом ночном. Хотя знал, что не перевелись в станицах и аулах лошади и каждую весну и осень то в татарском ауле на сабантуе, то в станицах на празднике урожая устраиваются иногда скачки и джигитовки, на которые съезжается народ отовсюду, даже из города. И джигитуют, конечно, парни --ох, какие лихие парни! -- и школой для них, конечно, по-прежнему служит ночное. Пока не исчезнут на земле кони, всегда будет ночное -- одно из самых удивительных и волнующих воспоминаний отрочества, а значит, не переведутся на земле джигиты. Просто другое время -- другое и ночное, наверное...
Он стоял долго, и одна картина перед глазами сменялась другой, он то заглядывал в прошлое, то видел будущее, и думалось здесь, на просторе, у реки, светло. В поднявшейся траве он разглядел след конной косилки и, проследив его, увидел съезд в луга. Ехать дальше расхотелось.
На высоком берегу, за вязами, угадывалась большая казачья станица. "Сегодня воскресенье, базарный день, наверное, еще успею", -- подумал Рушан, почувствовав, как проголодался. Он развернул машину и проехал по проселочной дороге вдоль высокого берега: где-то дорога должна была свернуть к селу.
В этой казачьей станице Рушан бывал, -- отчим несколько раз брал его на базар, а однажды Исмагиль-абы чинил английский двигатель на старой казачьей мельнице и жили они вдвоем на постоялом дворе станицы целую неделю. Рушан тогда не мог взять в толк, почему местных называют казаками, -- ведь говорили они на русском языке, как и их соседи в Мартуке, да и внешне ничем не отличались от соседей, разве только стар и млад носили фуражки с лаковым козырьком и красным околышком. Еще запомнилась станица сплошь белыми ухоженными хатками -- ни одной развалюхи, как у них в поселке, -- и вишневыми садочками. И почему-то запала в память фраза, -- отчим сказал ее кому-то, когда они вернулись после ремонта мельницы, и, наверное, расспрашивали сельчане о казачьем житье-бытье: "У казаков порядок строгий: лес береги, реку береги, луга береги, -- потому и живут крепко".
Тогда, мальчонкой, он не понимал, почему нужно беречь реку, лес, луга, пашню. Казалось, они сами по себе: всегда были и будут, -- и при чем здесь человек?
Станица, в которую въехал минут через десять, ничем не напоминала то казачье село, в котором он бывал тридцать лет назад. Ныне оно походило на Мартук -- время безжалостно нивелирует быт, стирая самобытное, индивидуальное. По вывескам Рушан определил, что станица ныне стала районным центром.
По пыльной разбитой главной улице райцентра, которую неведомо когда и невесть как заасфальтировали, не расспрашивая никого, выбрался к базару. Лишь базар, уже мало-помалу начинавший расходиться, терявший напряжение и азарт, напомнил ему казачью станицу его детства.
У ограды стояли подводы, брички и даже пароконный крытый фургон, на манер ковбойских, с которого продавали визжавших двух-, трехмесячных поросят. Рушан поставил машину в лаково-цветной ряд сплошных "Жигулей" и поспешил к торговым лавкам. Но как ни спешил, не смог не сдержать шаг у старинной, изгрызенной степными аргамаками коновязи. Где, в каком месте и когда еще увидишь подобную стоянку? Наверное, нынешние дети и не подозревают, что были раньше специально отведенные места для верховых лошадей, как сейчас для автомобилей и велосипедов. У коновязи неспокойно стояли с десяток лошадей, испуганно кося глазами и нервно перебирая тонкими ногами. На двух были высокие казачьи седла -- роскошные, старинной работы, и сбруя вся в черненом серебре, отчего казалась невероятно тяжелой, даже стремена были серебряные, высоко подтянутые.