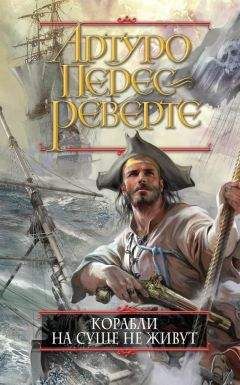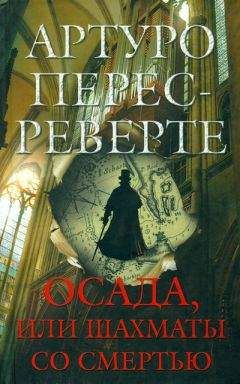Артуро Перес-Реверте - Кожа для барабана, или Севильское причастие
В узеньких улочках шаги отдавались слишком громко, поэтому трое мошенников держались на приличном расстоянии от объектов наблюдения, время от времени меняя строй: то выходил вперед дон Ибраим с Красоткой Пуньялес, а Удалец из Мантелете оставался сзади, то выдвигался Удалец – один или с дамой под руку (под здоровую, потому что обожженная покоилась на перевязи); однако они ни на миг не теряли из виду священника и молодую герцогиню. Это было нелегкой задачей, потому что весь Санта-Крус состоит из поворотов, закоулков и тупиков. В какой-то момент почтенной троице пришлось во весь дух улепетывать на цыпочках, прячась среди теней, когда Куарт и Макарена, дойдя до крохотной, замкнутой со всех сторон площади и постояв на ней пару минут, занятые разговором, повернули назад.
Сейчас все шло хорошо. Парочка шла по не слишком извилистой улице, где нетрудно было следить за ней без особого риска. Так что дон Ибраим – обширное светлое пятно в темноте, – сбросив прежнее напряжение, достал из кармана сигару и, сладострастно повертев ее в пальцах, сунул в рот. На восемь-десять шагов впереди него шествовали Удалец из Мантелете и Красотка Пуньялес, следя за каждым движением священника и молодой герцогини; и, глядя на своих друзей, экс-лжеадвокат испытал прилив нежности. Они выполняли свой долг со всей ответственностью. В особенно тихих местах Красотка, чтобы не шуметь, снимала свои туфли на высоком каблуке и шла босиком, шла грациозно, несмотря на возраст, неся их в руке вместе с сумкой, где лежало ее вязанье, фотоаппарат Перехиля и несуществующая вырезка из газеты, повествующая о том, как некий мужчина с зелеными, как молодая пшеница, глазами убил другого мужчину ради ее любви. Вечная Красотка в своем вечном платье в крупный горох, со своими крашеными волосами, со своим завитком на лбу а-ля Эстрельита Кастро и со своим видом певицы и танцовщицы, направляющейся на ставшую уже невозможной сцену. И рядом с ней – Удалец, серьезный, мужественный, ведущий ее под руку с почтением человека, знающего или догадывающегося, что это наибольший знак уважения, какой только может истинный кабальеро оказать в этом мире такой женщине, как Красотка.
Зажав трость под мышкой, дон Ибраим наклонил голову, чтобы под защитой широких полей своей шляпы зажечь сигару, и, пряча в карман массивную серебряную зажигалку – на сей раз подарок Габриэля Гарсиа Маркеса[56], с которым он познакомился, по его словам, когда автор знаменитого романа «К полковнику Парамо никто не ходит» был всего лишь скромным хроникером в Картахене-де-Индмас, – потрогал билеты на воскресную корриду, купленные всего несколькими часами раньше Удальцом из Мантелете. В свободное время бывший тореадор и боксер зарабатывал на жизнь в окрестностях Трианского моста, ассистируя пройдохе-наперсточнику. Вот шарик тут, а вот его нет, подходите, кабальеро, попытайте счастья. Серьезный вид и клетчатый пиджак Удальца внушали доверие многим простакам; вот и в это утро он вместе с коллегами помог какому-то пуэрто-риканскому туристу освободиться от внушительной пачки долларов. И во искупление ошибки, допущенной им в деле с бутылкой из-под «Аниса дель Моно», приобрел три билета на корриду, на теневую сторону. Это стоило ему всей утренней выручки, потому что в воскресенье на «Маэстрансе» выступали знаменитые Курро Ромеро, Эспартако и Энрике Понсе (имя Курро Маэстраля убрали с афиш буквально в последнюю минуту, безо всяких объяснений), а их противниками должны были стать шесть быков от «Карденаля и Мурубе». Целых шесть.
Дон Ибраим выпустил клуб дыма и подвигал челюстями, проверяя состояние кожи, обильно намазанной мазью от ожогов. Усы и брови у него тоже порядком обгорели, однако он не мог жаловаться на судьбу: слава Богу, все обошлось сравнительно благополучно, если, конечно, не считать обуглившегося стола, большого пятна копоти на потолке и пережитого страха. Правда, страха смертельного, особенно когда они увидели, что Удалец мечется по комнате с пылающей, как факел, левой рукой (к счастью, он, как настоящий мужчина и кабальеро, курил, держа сигарету в левой), как в фильме Винсента Прайса об. убийстве в музее восковых фигур. Так он и метался до тех пор, пока Красотка с завидным присутствием духа, громко повторяя «Пресвятая Дева!», не направила на него и на дона Ибраима струю воды из стоявшего на кухне сифона, а потом не набросила на стол одеяло, чтобы загасить огонь. Потом было много дыма, объяснений, были соседи, столпившиеся в дверях, и весьма неловкая ситуация, когда прибыли пожарные и обнаружили, что гасить уже нечего, кроме горящих от стыда щек трех приятелей. По молчаливому согласию, никто из них не собирался когда бы то ни было упоминать об этом событии. Ибо, как изрек дон Ибраим, академическим жестом воздев палец к небу, когда Красотка вернулась из аптеки с тюбиком мази от ожогов и бинтами, в жизни бывают горестные главы, которые необходимо любой ценой предавать забвению.
Должно быть, священник и молодая герцогиня, занятые разговором, остановились, потому что Красотка и Удалец буквально вросли в одну из стен на углу. Дон Ибраим благословил судьбу за эту передышку – столько времени влачить по городу свои сто десять килограммов было делом нелегким – и засмотрелся на луну, повисшую над узкой улочкой, наслаждаясь ароматом сигары, дым которой поднимался кверху плавными спиралями в серебристом свете, разлитом над всеми закоулками Санта-Круса, куда не добирался свет электрических фонарей. Даже вонь от мочи и грязи, стоявшая поблизости от некоторых баров, не могла заглушить аромата цветущих апельсиновых деревьев, ночных красавиц и цветов, свешивающихся с балконов с задернутыми шторами, из-за которых до ушей прохожего приглушенно долетали музыка, обрывки разговоров, диалоги киногероев или аплодисменты участникам телеконкурсов. Из одного из ближних домов доносилась мелодия болеро, напомнившая дону Ибраиму о других лунных, ночах, других временах, других улицах, и его душу охватила тоска по своим двум карибским молодостям: одной – реальной, другой – воображаемой, слившихся воедино в воспоминаниях о ночах на жарких пляжах Сан-Хуана, о долгих прогулках по Старой Гаване, об аперитивах, выпитых в веракрусском кафе «Лос Порталес» под музыку и голоса марьячи[57], распевавших «Божественных женщин» его друга Висенте или «Красавицу Марию» – ту самую, созданию которой он, дон Ибраим, немало способствовал в свое время. А может быть, подумал он, глубоко затягиваясь сигарой, это просто тоска по молодости. И по мечтам, которые хищница жизнь потом зубами вырывает у человека одну за другой.
Как бы то ни было, продолжал размышлять он, видя, что Удалец и Красотка отклеились от стены, и двигаясь вслед за ними, у него остается Севилья: некоторые из ее мест казались ему до боли похожими на те, что он знал с детских лет. Ибо этот город, как никакой другой, в углах своих улиц, в своих красках, в своем свете хранил шелест медленно уходящего времени или, вернее, шелест души, уходящей вместе с тем, за что цепляются, чтобы не пойти ко дну, жизнь и память.
Впрочем, у долгих агоний есть своя плохая сторона: теряется декор. Дон Ибраим, еще раз затянувшись, грустно покачал головой: в ближайшем портале, под ворохом газет и картона, смутной тенью виднелась фигура спящего нищего, а рядом с ней дон Ибраим скорее угадал, чем разглядел очертания блюдечка для милостыни. Инстинктивно он сунул руку в карман и, отодвинув в сторону билеты на корриду и зажигалку Гарсиа Маркеса, шарил там, пока не нашел монету в двадцать дуро, которую, с усилием перегнувшись через свой шарообразный живот, и положил рядом с неподвижным телом. Уже удалившись на десяток шагов, он вдруг вспомнил, что у него совсем не осталось мелочи для очередного телефонного рапорта Перехилю, и подумал было о том, чтобы вернуться и забрать монету, однако не стал этого делать, понадеявшись, что у Красотки или Удальца еще осталась мелочь. В конце концов, умение делать благородные жесты требует достоинства.
Мир, конечно же, тесен, однако после этой ночи Селестино Перехиль не раз и не два задавал себе вопрос, случайной ли была встреча его шефа Пенчо Га-виры с молодой герцогиней и священником из Рима, или она подстроила ее нарочно, зная (кто мог бы знать это лучше нее?), что в это время ее муж, бывший муж ала черт его знает кто, всегда заходит пропустить рюмочку в бар «Эль Локо де ла Колина». Дело обстояло так: Гавира с подругой сидел на битком набитой людьми террасе, а Перехнль, в своей всегдашней роли телохранителя, – в баре, у двери. Шеф заказал ему порцию шотландского виски с большим количеством льда, и он смаковал первый глоток, разглядывая его спутницу – хорошенькую фотомоделъ местного значения, которая, несмотря на явную нехватку интеллекта, а может, как раз благодаря таковой, уже успела приобрести некоторую известность после произнесенной в одной из реклам Южного канала короткой фразы, касающейся какой-то марки бюстгальтера. Фраза была достаточно недвусмысленной; «Вот это – бюст, и он мой», и фотомодель – некая Пенелопа Хайдеггер, имевшая солидные анатомические основания для подобного утверждения, – вкладывала в нее всю чувственность, на которую только была способна и которая производила на слышавших ее такое впечатление, что Пенчо Гавира весьма серьезно намеревался оспорить в течение ближайших часов – и далеко не в первый раз – заявленные его дамой права собственности на искомую часть тела. А почему бы и нет, думал Перехиль, почему бы таким образом не отвлечься от тревожных мыслей о банке «Картухано», о церкви Пресвятой Богородицы, слезами орошенной, и о прочих многочисленных проблемах?