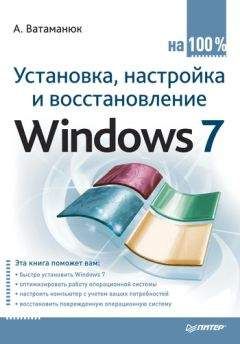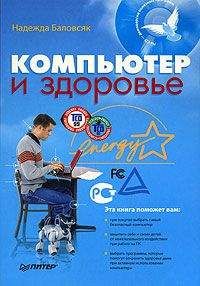Светлана Борминская - Дама из Амстердама
— Какая ещё Пенелопа?.. Я — пела? — проворчала Танечка, разглядывая незнакомую кухню. — Где я, собственно?.. Сынок!
И вышла на улицу.
— Этот волшебный город Амстердам, — прогудела ей шарманка на углу, и Танечка кое-что вспомнила. Но не всё.
Мимо магазина шляп медленно прошёл седой господин Ольсен.
— А где ваша мама? — с улыбкой спросил он грустного толстяка.
— Наелась клонированных помидоров и сидит отдыхает, — сказал Клаус-Иосиф и снова прикрыл покрасневшие глаза очками.
Рыжая Пенелопа в огромных веснушках только что объявила ему, что с такой свекровью ей ввек не ужиться! Её-то мама — не такая.
«Мы будем жить отдельно от мамы», — пообещал Клаус-Иосиф пересохшим ртом, хотя всю жизнь прожил с мамой и только с ней! Но Пенелопа, тряхнув рыжей чёлкой, вышла из шляпного магазина столь стремительно, что на пол с манекенов полетело сразу девять шляп.
А Татьяна Андреевна в эти минуты сидела на своём обычном месте — в закутке кружевного магазина — и смотрела сквозь тюль на площадь из витрины французского окна.
У неё все мысли были об одном.
— Как же это я?! — вертелась на стульчике она. — Что же я себе там позволила вчера в баре? Перепила и пела? Что же я хоть пела-то?..
Татьяне Андреевне последние двадцать лет не хотелось ни пить, ни петь, ни плясать…
МОСКВА — ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕПо лестнице навстречу Юрию Тимофеевичу бежал пятилетний сван. В руке у старшего лейтенанта была лошадь. Гущин успел поймать её за хвост на лету.
— Сван, опять твоя лошадь, — возвращая парнокопытную игрушку, сказал Юрий Тимофеевич.
— Она сама скакнула! — грозно выпалил сван и ринулся наверх.
— Шалва, иди домой! — позвал голос сверху.
Другой рукой Юрий Тимофеевич поддерживал раненую по касательной пластмассовой лошадью Вайолет Грюнгрум.
— Ох, — совсем не по-голландски охала та. — Ох! Ох-ох!
— Сегодня уже поздно — переночуете здесь, а завтра я отвезу вас в посольство, — открывая дверь в квартиру, говорил Юрий Тимофеевич.
На Вайолет со стен глядели все Танечкины ученики — две с половиной тысячи детей… Вайолет зажмурилась от их настырных глаз…
— Устраивайтесь! Туалет и ванная… Я вам сейчас яичницу пожарю, — достал из холодильника два яйца Юрий Тимофеевич. И вытащил молоко.
В холодильнике лежал набор кое-каких продуктов, оставшихся от Танечки.
— Ну, я домой! — сказал через пять минут Юрий Тимофеевич.
Вайолет попробовала яичницу, попробовала ещё — и вылизала сковородку, до того та была вкусной. Прежде чем уснуть, включила диковинный ящик, похожий на допотопный телевизор.
— Си-эн-эн! — удивилась фру Грюнгрум и села, подперев щёку. Показывали обычные мировые новости, правда, в чёрно-белом варианте и без перевода.
«Этим летом престарелые граждане города были особенно агрессивны. — Вайолет жадно ловила текст, который читал диктор. — На улице с автобусом столкнулась бабушка пенсионного возраста».
И Вайолет увидела поворот от площади Мармелад к своему дому — показали помятый автобус и довольно упитанную старушку, которая грозила автобусу кулаком. Бабушку Вайолет не узнала, но ей показалось, что на пороге магазинчика, принадлежавшего ей последние шестьдесят лет, она увидела саму себя — в лиловой юбке и безразмерном свитере, похожем на парашют. Кадр промелькнул столь быстро, что Вайолет прикусила губу!
«Кто эта женщина? Я тут! А она — там?!»
И долго не могла заснуть, ворочаясь на узкой кровати в незнакомой, заставленной мебелью комнате… По потолку бежали тени от проезжавших по улице машин, но Вайолет все же заснула.
Когда следующим утром Юрий Тимофеевич пришёл за гражданкой Голландии, он увидел следующее — та жарила из остатков яиц глазунью, а в углу ругался телевизор, голосом Галкина.
— Там, — ткнула длинным ногтём Вайолет, — показывали бар!
— Ну и что? — Гущин пожал плечами.
— Это мой бар, — тихо сказала ему Вайолет.
— Ну и хорошо, — согласился Юрий Тимофеевич.
— Там пела и плясала какая-то старуха в моем кимоно! — кинула горячую сковородку прямо на клеёнку Вайолет.
— Надо же! — удивился Юрий Тимофеевич. — У вас чего ж, в барах старухи пляшут?
— Вот эта старуха! — ткнула пальцем в фотографию на стене фру Грюнгрум.
— Эта?! — С фотографии на стене глядела и улыбалась Танечка. — Ешьте яичницу, и поедем, — поторопил он фру, которая смотрела на него и молча плакала, поглощая яйца.
Юрий Тимофеевич не выносил женских слёз. И мужских не выносил тоже.
А про себя подумал: «Ну, Панкова! Ну, Татьяна Андреевна!»
В посольстве Вайолет Грюнгрум не обрадовались — после месяца жизни в России без документов жила на лбу Вайолет Грюнгрум вздулась, и она стала выглядеть не лучше чем, Танечка, которая прожила в Москве всю свою жизнь.
Тем не менее ей сразу же выписали временные документы и поселили в приличной гостинице. Юрий Тимофеевич попрощался с фру Грюнгрум и, попросив её домашний телефон, прямо с улицы позвонил в Амстердам — в надежде услышать Танечкин голос и спросить у неё, всё ли там нормально и вообще…
Ведь человека, если его любишь — ругать или корить ни в коем случае нельзя!!! Его можно лишь спросить: «Как ты, хороший мой? Ты жива, хорошая моя?»
Только так.
СЧАСТЬЕ МОЁ— Давайте, посмотрим, что творится в обществе, — говорила Танечка всем, кто пытался её слушать в кружевной лавке на углу площади Мармелад. И при этом обычно добавляла: — Я много ошибалась.
За три недели в Амстердаме у неё появилось три десятка очень хороших знакомых, включая собак и одного хромого пони. Но в основном это были голландки её возраста, которые не сомневались, что Вайолет ездила в Москву делать очередную пластику лица или лечить память… И приходили посмотреть на неё каждый божий день.
Танечка щебетала с ними обо всём и ни о чём, едва показывая нос и полглаза из-под шляпы.
«Я всегда была уверена — моё счастье ждёт меня в другой точке Земли.
Мой суженый… Он дырки проглядел в своём вымытом окне, не встречая меня на улицах, по которым ходит всю жизнь. И вот я здесь». Танечка огляделась на кружевные облака, в которых сидела, и свободно вздохнула.
Она себя чувствовала до крайности свободно в этих облаках амстердамского магазина, как никогда раньше за все семьдесят восемь лет жизни на улице Дубовой Рощи в Москве.
— Ведь это неправильно! — вдруг поняла Танечка. — Мы рождаемся не там и не в то время, где могли быть счастливы. Почему, Господи? Разве виноват ребёночек, в голове и сердечке, которого — россыпь талантов, что родился в Эфиопии, где не проживёт и года? Зачем он родился, чтобы умереть с голодухи?
Голландки её возраста обычно соглашались с тем, что говорила Танечка.
Был вечер, когда в лавку снова зашёл незнакомец.
— Кирстен Ольсен, — приподнял шляпу он. — Я вас вчера видел в «Токийской лошади».
— Вайолет, — покраснела Танечка.
— Орнитолог — специалист по соловьям, — отрекомендовался джентльмен.
— У меня сын — Иосиф …или Клаус, — немного невпопад сказала Танечка, боясь разоблачения. Сидение в лавке с кружевами нравилось ей необычайно.
И в шляпном магазине было так прохладно, что тоже можно было посидеть.
А уж в «Лошади» с токийским разрезом глаз, вспомнила вчерашнюю вечеринку Танечка, она оставалась бы круглосуточно, если бы не раб условностей — Иосиф, устыдившейся своей весёлой матери.
— Я пришёл вас проводить, — открывая перед Танечкой дверь, буркнул господин Ольсен. — Вас ведь ограбили не так, чтобы давно…
— О, да! — вспомнила грабёж Танечка. — Тыща с чем-то евро — фьють!.. И сумку унесли!
И свистнула. Господин Ольсен вздрогнул.
— Сегодня на небе — знаковые звёзды, — на пороге дома стал прощаться господин Ольсен. И поглядел в Танечкины глаза.
— Бинарные — двойные звёзды — согласилась Танечка чуть не плача. Она в школе больше десяти лет преподавала астрономию семиклассникам.
На небосклоне мигала какая-то туманность — Андромеды или что-то вроде неё…
— Если бы мне звёздный атлас, — вслух помечтала Танечка, — я бы сказала не навскидку, что там торчит наверху.
— Ты споёшь мне? — на прощание спросил её новый знакомый.
— А что? Я пою? — поперхнулась Танечка.
— А как же, вчера в «Токийской лошади». «Гори, гори, моя звезда-а-а», — старательно пропел господин Ольсен, безбожно при этом фальшивя.
— В какой — лошади? — Танечка потёрла голову, вспомнив отчего-то про московскую лошадь. — Приходи завтра — я, может, и спою…
— Мама, ты была не одна! — заходя следом за Танечкой, констатировал Клаус-Иосиф. — Что тебе сказал господин Ольсен?.. Ты же всегда высмеивала его!
— Я, — округлила глаза Танечка.