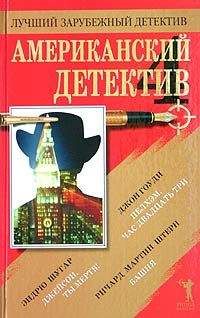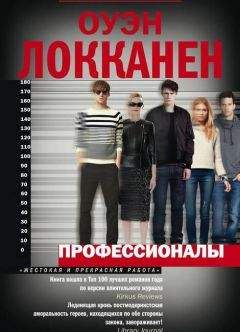Джон Гоуди - Пелхэм, час двадцать три
Денни Дойл улыбнулся. Он сам рассказывал эту историю, утверждая, что она случилась именно в его поезде. Если такое действительно могло произойти, то скорее всего в час пик несколько лет назад. Тогда прорвало магистральную трубу, вода затопила пути, так что когда движение восстановилось, на платформах скопились толпы народу, на каждой станции поезд стоял по нескольку минут, и люди давились насмерть, лишь бы втиснуться в вагон. В тот вечер в каждом вагоне ехало больше 200 пассажиров, да плюс ещё багаж — больше миллиона фунтов!
Он снова улыбнулся и повернул рукоятку тормоза: поезд подъезжал к остановке на двадцать восьмой улице.
Том БерриЗакрыв глаза и раскинувшись на сидении в головной части первого вагона, Том Берри полностью расслабился, успокоенный покачиванием вагона и усыпленный нестройной мешаниной звуков. В приятной и неясной дымке мелькали станции, и он не утруждал себя считать их. Ему нужно было выйти на Астор-плейс, а когда это сделать подскажут привычка и какое-то шестое чувство, инстинкт выживания, выработавшийся у жителей Нью-Йорка на многочисленных фазах вооруженного сосуществования с городом. Чтобы справляться с бесконечными угрозами, они как животные джунглей или растения адаптировались и выработали специфические средства защиты. Разрежьте жителя Нью-Йорка, и вы увидите такое строение мозга, такие связи в его нервной системе, каких нет ни у одного обитателя любого другого города в мире.
Он улыбнулся собственной мысли и задержался на ней, отшлифовывая её и даже придумывая ту небрежную фразу, которой поделится с Диди. Уже не в первый раз ему пришло в голову, что Диди для него очень много значит. Как падающее в лесу дерево не шумит, если рядом нет никого, кто может его услышать, так и для него ничто не имело значения, если он не мог поделиться этим с Диди.
Возможно, это была любовь. Может быть, именно так можно было обозначить тот запутанный клубок сумасшедших и противоречивых чувств, его охватывавших: сексуальное неистовство, враждебность, удивление, нежность и почти непрерывная конфронтация. Это и есть любовь? Если это действительно так, то чертовски не похоже на то, как описывают её поэты.
Улыбка погасла, и брови нахмурились, когда он вспомнил вчерашний день. Он вышел из метро, прыгая через три ступеньки, почти бежал, мечтая о своей капризной возлюбленной, сердце забилось в предвкушении, что он сейчас её увидит. Она открыла дверь на стук (звонок уже три года не работал), развернулась и ушла, не произнеся ни слова.
Том замер у двери, разинув рот с застывшей на губах улыбкой. Даже в этот момент удивления и растущего гнева она оказалась сильнее его; этому не мешали даже скрывавшие её красоту брюки из грубой ткани, неряшливо обрезанные выше колен, очки в металлической оправе, каштановые волосы, небрежно падающие на щеки.
Он взглянул на пустые глаза и оттопыренную нижнюю губу.
— Ты регрессируешь. Это состояние мне знакомо. Ты впервые его испытала в три года.
— Тебя блестяще подковали в колледже, — хмыкнула она.
— В вечерней школе.
— Да-да, в вечерней школе. Сонные студенты и преподаватель в мятом пиджаке, целый час преющий над проблемой, как избавиться от мучительной скуки.
Он шагнул к ней, стараясь не ступать на потертый рваный коврик, едва прикрывавший покоробившиеся доски пола. В некоторых местах они приподнялись, в других — просели, словно их покорежило землетрясением да так и бросили, и продолжал улыбаться, но уже совсем невесело.
— Это чисто буржуазное презрение к низшим классам, — заметил он. — Многие не в состоянии посещать колледж в дневное время.
— Многие люди. Ты не человек, ты — враг рода человеческого.
В нем начала подниматься мрачная ярость; движимый упрямством (а, может быть, не только упрямством, образующим узкую полоску между любовью и ненавистью и соединяющим страсть и гнев), Том почувствовал, как его охватывает сексуальное возбуждение. Он знал, что если Диди это заметит, то непременно воспользуется своим преимуществом, а потому повернулся к ней спиной и ушел в противоположный конец комнаты. Выкрашенные оранжевой краской книжные полки покосились, как пьяные. На распухшей от множества слоев старой краски каминной доске тоже стояли книги, они же лежали и в неработающем камине. Эбби Хофман, Джерри Рубин, Маркузе, Фанон, Кон-Бендит, Кливер — стандартный набор пророков и философов Движения.
Голос девушки достал его и там.
— Я больше не желаю тебя видеть.
Он ожидал и этих слов, и до последнего нюанса выдержал выверенный тон. Не поворачиваясь, он ответил:
— Думаю, тебе стоит сменить имя.
Том рассчитывал подобным заявлением вывести её из равновесия. Но едва произнеся эти слова, понял всю их двусмысленность и то, что она неправильно их истолкует.
— Я никогда не верила в разумность брака, — заявила Диди. — И даже будь это так, предпочла бы жить с… ну, с кем угодно… чем выходить замуж за свинью.[3]
Том оперся спиной о каминную доску.
— Я не собирался предлагать тебе замужество. А имел в виду твое имя. Диди — слишком легкомысленно для революционера. Революционеры не должны носить бессмысленных имен. Сталин, Ленин, Мао, Че — все это четкие диалектические имена.
— Как насчет Тито?
Он рассмеялся.
— Один-ноль в твою пользу. В самом деле, я ведь даже не знаю твое настоящее имя.
— А какая разница? — Потом, пожав плечами, она добавила: — Дорис, я его ненавижу.
Кроме своего имени, она ненавидела ещё множество вещей: истеблишмент, систему, мужской шовинизм, войны, бедность, полицейских и особенно отца, неизменно преуспевающего финансиста, который обеспечивал её шелком, атласом, любовью, вставными зубами и образованием в колледже Айви-лиг; который почти, но не до конца, понимал и её нынешние нужды, и от которого, к его величайшему огорчению, она принимала деньги только в самых стесненных обстоятельствах.
Нельзя сказать, что в большинстве своих мыслей и чувств она была слишком уж не права, но отсутствие последовательности во многих вещах буквально сводило его с ума. Если она ненавидела отца, ей ни в коем случае не следовало принимать от него деньги; если она ненавидела полицейских, ей не следовало спать с одним из них.
Она раскраснелась и стала очень привлекательной и какой-то беззащитной. Он мягко спросил:
— Ну ладно, в чем дело?
— Не пытайся обмануть меня своим притворно невинным видом. Мои друзья были в толпе и все видели. Ты так жестоко обошелся с невинным негром!
— А, да. Так это все, в чем я провинился?
— Мои друзья были там, на Сен-Маркс-плейс, и рассказали мне, что там произошло. Меньше чем через полчаса, как ты ушел отсюда, из моей постели, ты избил до полусмерти негра, который абсолютно ничего не сделал.
— Ну, нельзя сказать, что совсем ничего…
— Подумаешь, помочился на улице. Разве это преступление?
— Он не просто мочился на улице. Он это сделал на женщину.
— На белую женщину?
— Какая разница, какого цвета была её кожа? Разумеется, она подняла крик. И не говори, что это был символический политический акт. Этот глупый и подлый подонок получил по заслугам.
— И ты избил его до полусмерти.
— В самом деле?
— Не пытайся отрицать. Мои друзья видели всю твою полицейскую жестокость.
— И как же они описали то, что произошло?
— Ты же не думаешь, что я не понимаю: для белого расиста нет лучше средства возбуждения, чем вид черного пениса, этой универсальной угрозы, угрозы, которая демонстрирует высшую степень потенции?
— Он вовсе не выглядел мощным. Скорее, съежился от холода.
— Это неважно.
— Послушай, — терпеливо вздохнул Берри. — Тебя там не было. Ты же не видела, что случилось.
— Зато видели мои друзья.
— Очень хорошо. А твои друзья видели, как он кинулся на меня с ножом?
Диди презрительно хмыкнула.
— Я ждала, что ты скажешь нечто подобное.
— Этого твои друзья не видели? Ведь они там были — верно? Ну, ладно, я тоже там был. Видел, что там произошло, и вмешался…
— По какому праву?
— Я — полицейский, — раздраженно огрызнулся он. — Мне платят деньги, чтобы я поддерживал порядок. Ладно, пусть я представляю репрессивные силы. Но разве можно назвать репрессией, когда одному человеку мешают мочиться на других? Права этого мерзавца нарушены не были, а права женщины — были. Конституция предоставляет каждому человеку право, чтобы на него не мочились. Вот почему я и вмешался. Вмешался от имени Конституции.
— Хватит, нечего острить на эту тему.
— Я оттолкнул его от женщины и приказал застегнуться и убираться прочь. Да, действительно, он застегнулся, но убраться не захотел. Он вытащил нож и шагнул ко мне.
— И ты не ударил его и не сделал ничего подобного?
— Я его толкнул. Даже не толкнул, а только подтолкнул, чтобы заставить убраться.