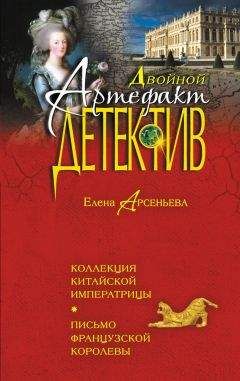Елена Арсеньева - Письмо королевы
Алёна меркнущим взором нашла имя автора – и остолбенела, потому что статья оказалась написана признанной метрессой женского детектива, некоторым образом положившей начало жанру своей многотомной серией романов об этаком Эркюле Пуаро в юбке. Героиня этих романов, болезненная, неженственная, неавантажная, некрасивая, брюзгливая, фригидная, злоязычная, почему-то пользовалась невероятным успехом у публики. Впрочем, написаны книжки были занятно и завлекательно, так что по пути метрессы немедленно ринулись многочисленные эпигонши, которые, в меру сил своих, начали более или менее удачно развивать и тему, и образ, а также плодить новых, более или менее нестандартных героинь. Создательниц женских детективов развелось теперь – не счесть (в эту когорту входила, напомним, и Алёна Дмитриева), и многие из них весьма лихо, не побоимся этого слова, конкурировали с метрессой-прародительницей, а порой и превосходили ее в популярности. Дошло до того, что метрессу начали откровенно задвигать, да и книг новых она выдавала теперь самую чуточку, жила больше былой славой, то есть переизданиями, и беспощадный глагол «исписалась» все чаще звучал рядом с ее именем. И вот вам – статья, в которой выносится смертный приговор всем, кто затмевает метрессу. Они, эти дерзновенные, были перечислены поименно, их романы подвергнуты самому пристальному, уничижительному и весьма убедительному анализу…
Алёна пробежала список вивисектируемых и мысленно перекрестилась, не обнаружив своей фамилии. Начала читать – ну что ж, с оценкой некоторых популярных творений нельзя не согласиться, и какое замечательное сравнение иных женских детективов с фастфудом: пока ешь, вкусно, и только потом начинаешь понимать, какую гадость употребил! Все-таки метресса, конечно, акула, пиранья и барракуда, но при этом умнейшая женщина, честное слово! Хотя такое количество негатива начинает утомлять. Алёна читала с пятого на десятое, то хихикая, то поеживаясь, как вдруг ей почудилось в самом конце статьи знакомое сочетание букв. Присмотрелась. Да, и в самом деле – «Дмитриева». Ее фамилия! Интересно, в каком контексте? Если ее нет в списке обруганных, то, может, она окажется в списке милостиво похваленных?
«Об остальном псевдописательском планктоне, обо всех этих Макаровых, Кузнецовых, Свечкиных и разных прочих Дмитриевых мне даже говорить не хочется, да они и не стоят внимания», – прочла Алёна и почувствовала себя так, будто ей в живот воткнули зазубренный меч. Да уж, надеяться на милосердие саблезубой тигрицы – напрасная затея!
Ничего не видя перед собой, ощущая, как похолодели от ярости руки, губы и щеки, она скомкала газету и отшвырнула прочь. Сделала несколько шагов в таком же неконтролируемом состоянии – и спохватилась, что находится вообще-то в столице мира, на одном из знаменитейших парижских бульваров (в нумере 32, к примеру, некогда находился салон мадам Рекамье, приятельницы мадам де Сталь и Рене Шатобриана, в доме 11 умерла знаменитая Альфонсина Плесси – «Дама с камелиями» Дюма-сына, ну и et cetera, et cetera), а ведет себя так, словно пребывает в центре деревни Гадюкино, в которой, как известно, перманентно идут дожди.
Алёна огляделась, готовая немедленно подобрать поганую газетенку и с покаянным видом потащить ее в ближайшую урну, однако узрела интересную картину. Ветер подхватил смятый в комок «Голос Москвы» и потащил его, словно перекати-поле, по крохотной улице Эдуарда VII к одноименной площади. Это было на редкость рафинированное местечко – сплошь замощенное, уставленное кадками с вечнозелеными деревцами, с мраморным памятником этому самому Эдуарду, королю английскому, который, кажется, более всего прославился тем, что уродился сыном знаменитой королевы Виктории. И тем не менее даже на этой изысканной улочке нашел себе приют парижский клошар, сиречь бомж.
Воспетая некогда Виктором Гюго и разными прочими, условно говоря, Золя, Гонкурами и Сименонами, армия парижских клошаров теперь переселилась из-под сырых, промозглых мостов на сушу и была снабжена некоторыми атрибутами социальной защищенности. У них имелись надувные матрасы, какие-никакие одеяла, иногда даже не на все сто процентов синтетические, некие подобия подушек, у многих – спальные мешки, кое у кого – раскладушки, зонты, а также тележки, чтобы omnia mea mecum porto[4], как завещали мудрые-премудрые, древние-предревние римляне. При этом парижские клошары с давних времен усвоили некую премудрость, каковую знали и российские бедолаги: если мерзнешь, а теплой одежды мало, обернись газетами. Между прочим, жаль, что не существует статистических сведений, скольких человек спасли от переохлаждения и обморожения нижних конечностей элементарные «Правда», «Известия» ну и, само собой, «Комсомолка»! Полагаю, что и «Libйration», и «Le Monde», и «Le Parisien» и, конечно же, «L’Humanitй» и вся прочая парижская пресса также сыграли большую гуманистическую роль этой суровой французской зимой. Судя по всему, свое предназначение предстояло выполнить и «Голосу Москвы», выброшенному Алёной. В то время, когда газетный ком проносился мимо свернувшейся клубком бесформенной массы, покрытой серо-буро-малиновым одеялом, оттуда высунулась лапища в митенке (Бог его знает, отчего эти перчатки с обрезанными пальцами – французское слово mitaines и означает «без пальцев», – бывшие сначала исключительно принадлежностью рыцарских доспехов, потом – ремесленников и торговок из простонародья, а в дальнейшем вдруг обретшие невероятную популярность у самых утонченных дам, – в наше время сделались столь любимыми клошарством!), сгребла грязными, с траурной каймой под ногтями, пальцами газету и поволокла ее под свое одеяло.
Ну что ж, Алёна могла только порадоваться, что ее пять евро не пропали даром, а принесли некую пользу одному из малых сих.
Порадоваться не получилось – очень уж тягостное впечатление произвела статья. Понурясь, обруганная писательница Дмитриева прошла еще квартал и машинально остановилась, потому что зеленая фигурка на светофоре напротив сменилась красной, и несколько автомобилей мигом ринулись по улице Комартан, которая пересекала бульвар Мадлен. И вдруг Алёна растерянно хлопнула глазами. Прямо напротив, на противоположной стороне улицы, тоже под светофором, переминался с ноги на ногу тот самый испанец с площади Соссе! И хотя errare humanum est[5], Алёна была убеждена, что она-то не ошибается. Смугло-бледное лицо, темные глаза, смешно торчащие волосы, узехонькие брючки, заправленные в высокие ботинки, легонькое пальтецо и, конечно, невероятные синие наушники. Он ошарашенно смотрел на Алёну.
Вид испанца был ошеломленным. Он аж губами шевелил растерянно. Наверное, бормотал про себя: «Это каким же образом она сюда угодила, эта дура в серой шубке?! Я ж ей куда дорогу указал? А она куда забрела?!»
– Поль, ты меня видишь?
– Да.
– Посмотри, напротив, около светофора, стоит женщина в серой короткой шубке с капюшоном.
– Вижу.
– Она была там, на остановке, где я ждал Жоэля! Она подошла ко мне, когда я чуть не сел в такси, начала спрашивать, как пройти на Осман, я указал ей дорогу – и вдруг вижу ее здесь. Она следит за мной, она заодно с таксистом, если бы я не рванул так неожиданно с места, они вдвоем запихнули бы меня в машину!
– Так что ж ты стоишь? Здесь неподалеку запросто может оказаться и таксист. Немедленно мотай оттуда! Слева от тебя подъезд, код 1224, ну, быстро!
И перед Алёной разыгралась сцена, аналогичная происшедшей на площади Соссе.
1789 год
– Петр Григорьев, тебя к столоначальнику. Да срочно! Все, говорит, пусть бросит и бежит!
– Бегу, бегу!.. Вызывали, ваше превосходительство?
– Вызывал. Отдышись, ишь, запыхался! В твои-то годы! Когда мне двадцать два было, я соколом летал, а ты тащишься, будто гусенок с подбитым крылом. Устал? Каши мало ел, вон тощеватый какой, нос торчит, будто у дятла. А что это ты обносился так, Григорьев? Паричишко рыжеватый – несолидно, наши все в пудреных ходят либо вороных. И кафтанишко… фу, был черный, теперь тоже порыжел. Приоденься, встречают, знаешь ли, по одежке! Ладно, не за тем зван был. Погляди сюда. Твоей рукой писаны сии листки?
– Да вроде моей, однако дозвольте взглянуть поближе.
– Глазам не веришь? Понимаю! Читай вслух!
– «Доношу вашему превосходительству, что последние два письма г-на посланника без трудности распечатать было можно, чего ради и копии с них при сем прилагаются. Також синий куверт[6] в министерский кабинет в Париж легко было распечатать, однако ж два письма в оном куверте, то есть к королю и в кабинет, такого состояния были, что, хотя всякое старание прилагалось, однако ж отворить оказалось невозможно. Так вышло, что куверты не токмо по углам, но и везде клеем заклеены, и тем клеем обвязанная под кувертом крестом на письмах нитка таким образом утверждена была, что оный клей от пара кипятка, над чем письма я несколько часов держал, никак распуститься и отстать не мог. Да и тот клей, который под печатями находился (хотя я искусно снял), однако ж не распустился. Следовательно же, я, к превеликому моему соболезнованию, никакой возможности не нашел оных писем распечатать без совершенного разодрания кувертов, чего делать остерегся, иначе дело наше наружу вышло бы. Цифирного кабинета Секретной экспедиции чин Петр Григорьев».