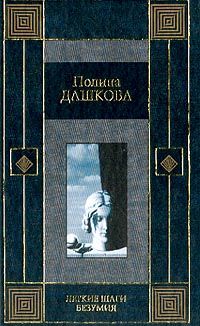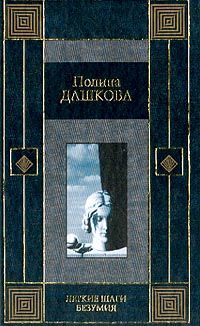Полина Дашкова - Никто не заплачет
Дрожа от холода, Вера закуталась в махровый халат, открыла дверь, впустила Мотю. Со двора послышался очередной залп. Пес в ужасе вскочил в ванную, столкнул на пол пластмассовое ведро с остатками теплой воды. Вера кинулась вытирать. В старом доме совсем сгнили перекрытия, соседи без конца протекали друг на друга. Даже если кто-то наверху мыл пол, внизу на потолке проступали влажные серые пятна. Под двухкомнатной квартирой Веры и ее мамы жила вредная тетка, которая за каждое пятнышко на потолке требовала, чтобы ей оплатили европейский ремонт.
«Ужасный день. – подумала Вера, вытираясь – Вообще все у меня ужасно совсем скоро стукнет тридцать. У меня нет ни мужа, ни детей, ни постоянной работы. За этот месяц я поправилась на два килограмма. Собственное отражение в зеркале вызывает тоску и оскомину».
Вера распрямилась, откинула мокрые волосы с лица и скорчила самой себе гнусную гримасу.
– Ну, давай, старайся, приводи себя в порядок, ври самой себе, будто ему важно, как ты выглядишь, будто он видит в тебе особь женского пола! Ты для него – толстый словарь, стационарный компьютер, который можно включить и выключить, когда вздумается.
В детстве Веру дразнили «ватрушкой». Она была полненькая, маленькая, со светло-желтыми волосами и бледно-голубыми глазами. Брови и ресницы тоже были совсем светлые, от этого ее круглое мягкое лицо ей самой казалось каким-то хлебобулочным, похожим на ватрушку. Кожа у нее была очень белая, неясная, чувствительная и к солнцу, и к ветру. На морозе ее маленький, чуть вздернутый носик моментально краснел, на солнце тоже краснел, обгорал и шелушился. Стоило хоть немного занервничать, и тут же щеки заливались жгучим румянцем. Если она плакала, даже совсем немного, то потом весь день ходила с воспаленными, опухшими глазами.
Каждое ее чувство сразу отражалось на лице. Она не могла ни соврать, ни притвориться. Если она огорчалась, лицо ее непроизвольно вытягивалось, уголки губ сами собой ползли вниз. Когда радовалась, глаза ее становились ярко-голубыми, сверкали, рот растягивался в счастливой щенячьей улыбке, щеки нежно розовели. Она знала это свое дурацкое свойство, но ничего поделать с лицом не могла.
С семи лет Вера носила очки, которые совершенно не шли ей, уменьшали и без того небольшие глаза, делали ее совсем скучной и неженственной. Беленькая пухленькая отличница, мамина дочка, пай-девочка, всегда чистенькая, тихонькая, безотказная…
В двенадцать лет Вера пыталась морить себя голодом. Ей хотелось стать тонкой, воздушной, неземной. Целый день она ничего не ела. Чтобы не обсуждать эту болезненную проблему с мамой, она, вернувшись из школы, разогревала себе суп, наливала в тарелку, потом аккуратно выливала в унитаз, тарелку и половник мыла и оставляла в сушилке.
– Верочка, ты пообедала? – спрашивала мама каждый раз, возвращаясь с работы.
– Конечно, – отвечала дочь, отворачивалась и заливалась горячим румянцем.
Ночью Вера, крадучись, пробиралась на кухню и съедала несколько толстых кусков колбасы, мазала маслом белый хлеб, стоя у холодильника и презирая себя до слез. Чтобы утешиться, она отправляла в рот полдюжины шоколадных конфет.
Шоколада в доме всегда было много. Мама, детский врач, участковый терапевт, получала в качестве подарков на все праздники исключительно шоколадные наборы.
У отца была другая семья. Верой он не интересовался. Мама работала на полторы ставки, и девочка была с семи лет предоставлена самой себе. Она росла самостоятельной, обязательной, очень аккуратной. Не ребенок, а чудо. К тому же с первого класса школы до последнего курса университета училась Вера на одни пятерки.
Когда начался период жгучих школьных романов, вечеринок при погашенном свете, Вера вообще перестала есть, даже по ночам. Ей действительно удалось немного похудеть, она была счастлива, пока однажды на контрольной по геометрии не упала в обморок.
– Ты никогда не будешь худой, Веруша. Смирись и не мучай себя, – сказала ей мама.
Одним из счастливых свойств Вериного характера было умение быстро забывать все неприятное. Она легко мирилась и с собственными внутренними проблемами, и с внешними обидами. Она вообще не умела обижаться – ни на людей, ни на природу, которая создала ее пухленькой, а не тонкой-звонкой. Настроение ее могло исправиться в один миг из-за какой-нибудь мелочи.
Ко всему прочему, Верочка с десяти лет писала стихи. До четырнадцати она их не показывала никому, только маме. И вот однажды мама потихоньку от нее отнесла несколько стихотворений в популярный молодежный журнал. Маме сказали, что у девочки есть кое-какие способности, стихи не напечатали, но Верочку пригласили в литературное объединение при журнале.
Теперь раз в неделю она приходила вечером в редакцию, где в зале заседаний собирались мрачные длинноволосые или бритые наголо молодые люди, надменные барышни в широких свитерах, пожилые сумасшедшие гении обоего пола.
Возглавлял литобъединение известный советский поэт, добродушный, сильно пьющий, с крайне запутанной личной жизнью и парой тоненьких сборничков лирики. Сборнички были изданы давно, в конце шестидесятых. Никто бы не заметил этих двух книжек, если бы не хлесткий фельетон партийного критика, опубликованный в газете «Правда». Поэт был объявлен чуть ли не запрещенным, встал в почетные ряды пострадавших от советской власти и тут же прославился на многие годы вперед. Даже стихов ему писать с тех пор не надо было. Он и не писал.
На занятиях обсуждалась какая-нибудь очередная поэма или подборка стихов. Каждый слушал только себя. Каждый приходил для того, чтобы раз в три месяца «обсудиться». Это была болезненная словесная эквилибристика, взрослые люди тратили вечера и силы на восхваление, а чаще – на уничтожение витиеватых, пустых опусов, спорили о каждой строке, издевались друг над другом с изысканным садо-мазохистским кайфом.
Пятнадцатилетняя Верочка Салтыкова была самой юной и незаметной из всех завсегдатаев литобъединения. Надменные барышни с сигаретками в зубах снисходительно называли ее «деточка», молодые люди вообще не смотрели в ее сторону. Но она чувствовала себя причастной к чему-то значительному, возвышенно-духовному. Творения непризнанных гениев казались ей действительно гениальными, злобные взаимные подколки членов литобъединения она воспринимала как образцы утонченности мысли, шедевры остроумия.
До обсуждения Верочкиных детских стихотворений очередь, к счастью, так и не дошла…
Один из завсегдатаев ЛИТО, двадцатитрехлетний студент Полиграфического института, пригласил небольшую компанию к себе на дачу. Стоял очень теплый май.
– И ты, малышка, давай с нами! – сказал он, мельком взглянув на розовое, круглое личико под желтой челкой.
– Я только позвоню маме!
– Тебя кто-нибудь потом проводит домой? – спросила мама по телефону.
– Конечно, мамуль, не волнуйся.
Надежда Павловна действительно не слишком волновалась. Ей, детскому врачу, человеку, далекому от прилитературной среды, все эти сложные непризнанные гении представлялись людьми чистыми, высокодуховными и абсолютно порядочными.
Пустая двухэтажная дача находилась в пятидесяти километрах от Москвы. В электричке Вера смотрела в окно, прислушивалась к разговорам, в которых Пушкина панибратски именовали Сашей, Лермонтова – Мишей, Мандельштама – Осей, Пастернака – Борей и так далее, словно все реальные гении русской поэзии были своими людьми в этом склочном табунке.
В саду на деревянном столе стояла пятилитровая бутыль мутного самогона. Вера, ни разу в жизни не бравшая в рот спиртного, залпом, зажмурившись, выпила почти полный стакан, любезно предложенный ей наравне со всеми. Ее никто не остановил. Проглотив жгучую гадость, она небрежно вытянула сигарету из чьей-то пачки и закурила. Ей хотелось быть, как они, бесшабашно-утонченной, искушенной, сложной.
Еды на столе было мало, только хлеб, плавленые сырки и толстые куски одесской колбасы. Вера выпила еще полстакана самогона, не закусывая.
Потом был сплошной тошнотворный туман, стремительное головокружение. Она запомнила только бреньканье расстроенного фортепьяно на темной веранде, мутные пятна смеющихся лиц, какой-то самолетный гул в ушах.
Очнулась она от резкой боли в паху и собственного крика. Открыв глаза, она увидела над собой бородатое чужое лицо, успела подумать, что совершенно голый человек с бородой выглядит как-то особенно дико и непристойно. Прежде чем что-либо сообразить, она изо всех сил вмазала своим маленьким кулачком по этой темной бороде и только потом узнала хозяина дачи, Стаса Зелинского.
– Я люблю тебя, не бойся, все хорошо, не бойся, – шептал он, пытаясь поймать ее руки.
Она вырвалась, дрожа и захлебываясь слезами, стала искать свою одежду в темноте на полу. Он тоже стал одеваться, бормоча, что влюбился в нее с первого взгляда, жить без нее не может и теперь они вовек не расстанутся.