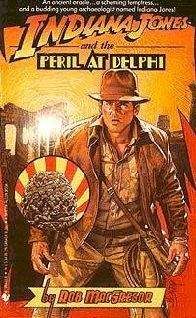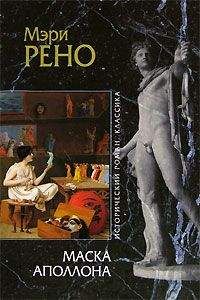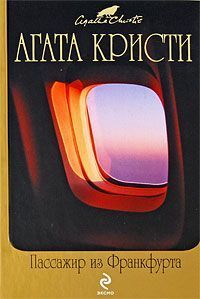Екатерина Лесина - Дельфийский оракул
Не дозвалась. Смолкла песня, и путник протянул руки к костру. Ночь близилась, многоглазый Аргус выпустил на небо первые звезды.
– Играй! – Юноша, гибкий, как лоза, вдруг вынырнул из-за камней. – Играй, потому что понравилась мне твоя песня.
– Не хочу, – ответил путник.
Юноша замер. Никто и никогда не смел отказывать ему. И вовсе не в том было дело, что боялись люди гнева царя Полиба, а в том, что желали они угодить царевичу.
– Почему не хочешь?
– Душа у меня пустая.
– А чем наполнить ее?
Глянул путник на него снизу вверх с насмешкой:
– Уже ничем. Сломанный меч можно починить, соединить обломки воедино, но будет ли в нем прежняя крепость?
– Меч можно перековать, – возразил Эдип, присаживаясь к огню. – У меня есть жирный заяц. Если его зажарить, будет вкусно. Матушка моя говорит, что голодному и горести горше, а страх – страшнее.
– Мудра твоя матушка.
Путник помог царевичу освежевать зайца. И огонь зашипел, опаляя свежее мясо.
– Куда ты идешь? – продолжил допытываться царевич.
– Куда глаза глядят.
– А куда они глядят?
– На дорогу… на людей.
– И часто встречаешь ты людей?
– Часто.
– К отцу приходят всякие. Рассказывают. О том, кто с кем воевать ходил. И кто победил. И какую взял добычу. И еще, куда кто плавал. Про чужие обычаи. Они иногда такие странные! Еще рассказывают о таких землях, которых, наверное и вовсе, нет. Про гарпий. Или про псоглавцев!
– Врут, – сухо ответил путник.
– Наверное. Но интересно же!
Улыбался Эдип, радостно ему было сидеть у костра, пусть случайный знакомец его был мрачен, но Эдип верил – вскоре эта мрачность исчезнет. Да и разве способен человек долго пребывать в печали? Сердце более к радости склонность имеет. Оттого и смеется Эдип – легко, заразительно. Все в отцовском дворце улыбками на его улыбки отвечали, смехом на смех. Не было тьмы в Эдиповом мире, разве что ночная, недолгая, готовая отступить перед рассветом.
– Как зовут тебя? – спросил он путника.
– Аполлон.
– Я – Эдип. Сын царя Полиба.
– Эдип… – Аполлон склонил голову. – Сын царя… да не того царя, которого ты отцом называешь!
– Что такое говоришь ты?!
– Правду. Всегда говорю правду. Проклят я, а за что – не знаю. Сломали, склеили – и вновь отпустили меня правду людям нести. Вот и тебе досталось. Зря ты вышел к моему костру, царевич Эдип!
– Странные речи. Злые слова. Но я прощаю тебя, несчастный человек. Видимо, сердце твое было ранено.
– Мертво.
– Мне жаль.
Он и правда испытывал жалость, этот светловолосый мальчик, так похожий на самого Аполлона. Брат ведь! Неужто поднимется у него рука на брата? Никогда. Пусть шепчет мать, как змея, пусть наполняет ядом пустоту, образовавшуюся под сердцем. Шли годы, накладывали швы на нее, но не заживала рана, только горше ему становилось.
Закрывал Аполлон глаза и видел лицо возлюбленной, улыбку ее счастливую. Слышал голос ее, ощущал прикосновение нежных рук. И, просыпаясь, вновь и вновь осознавал утрату.
Умереть бы! Броситься на меч, остановив все, прервав эти страдания.
Нет, Аполлон продолжит жить. Таково его наказание – не в мире ином, где судят боги, – но на дорогах Эллады. Ходить ему и ходить по миру, не зная покоя, встречаться с людьми и говорить то, чего люди не желают слышать. Принимать проклятия, камни, редко – благодарность, которая тоже проклятьем обернется.
Много ли в том радости – знать судьбу свою наперед?
И не желал Аполлон заходить во владения Полиба, он просто шел, глядя лишь на дорогу, беседуя в мыслях с той, с которой желал бы говорить наяву. И вот что получилось.
– Не спрашивай меня ни о чем, – взмолился Аполлон, глядя в синие глаза брата. – Уходи! И забудь об этой встрече.
– Если просишь ты… но ты не прав. Я знаю, кто мой отец!
Вскочил на ноги Эдип и бросился прочь. Скрылся он во тьме и не увидел, как Аполлон рыдает, уронив голову на ослабевшие руки.
Проклятый дар!
– Я не хочу ему зла! – шептал он, и тень, вставшая за его спиной, не видимая ему, ласково гладила его, утешая. – Не желаю…
Но ворота уже открылись. И яд его слов уже проник в уши молодого царевича. Вихрем ворвался он во дворец, упал к ногам Полиба, взмолившись:
– Скажи, отец, правду! Ты ведь отец мне? Ты?! И мать – та мать, которую я знаю, родила меня?
– Конечно, – ответила мать, обнимая того, кого она называла сыном. – Как же иначе?
– Как иначе? – Полиба взглянул на жену, соглашаясь, что надобно молчать.
Он и сам уже забыл тот день, когда пьяненький пастух принес во дворец младенца, а тут вдруг вспомнил и испугался.
– Поклянись! – потребовал Эдип.
– Клянусь. Наш ты сын. И – лишь наш.
Успокоенный, уснул Эдип. Но во сне увидел он незнакомца, назвавшегося Аполлоном, горькую его усмешку, и взгляд – строгий.
– Ложь, – сказал Аполлон. – Ты же знаешь сам.
Нет! Неправда! Что знает Эдип? Он не помнил другой матери и другого отца, и все – рабы, слуги, друзья – уверяли его, что здесь, во дворце Полиба, впервые увидел он свет.
Но отчего тогда столь светел обликом Эдип? Волосы его – цвета янтаря, а кожа и вовсе по-девичьи бела. Отец же с матерью – смуглые, оба… случается такое, случается!
Ложь.
Правда.
Где искать истину? У кого спросить?
У того, кто всегда говорит правду. Тайно отправил Эдип гонца к Дельфийскому Оракулу. Отправил он и золотой браслет, и три стрелы, исполненных из серебра, во славу бога.
Аполлон. Этого бога звали, как его случайного знакомца, игравшего печально на кифаре. И не могло ли статься так, что Олимпиец бродит по земле? Тогда оскорбится он, что не поверил Эдип его слову. Но Эдип верил… или нет?
Долго ждал он возвращения гонца и уже отчаялся дождаться, убедив себя – неважно, где и когда появился он на свет, ведь помнит он лишь дворец Полиба.
– Ты – мой отец, – сказал Эдип, обняв царя. – Ты, и только ты. И матерью не назову я другую женщину.
Ненадолго мир поселился в душе Эдипа. Ведь гонец – стрела, которую не поймать в полете и силой желания не вернуть в колчан. Сам он объявился.
– Вот, царевич, – протянул гонец послание, перевязанное красной лентой. И печать была цела. – Пифия сразу приняла меня. И, выслушав вопрос, не сказала ни слова. Но вынула это послание, словно ждало оно тебя.
Ждало? Пифии ведомо будущее. Она – голос бога, глаза его, воля… и что же решил бог для Эдипа? Нет, не станет царевич ломать печать. Страшно! Так страшно, как не бывало никогда прежде.
Или открыть?
Боги его предупреждают. Лишь глупец и гордец откажется слушать их предупреждение. А Эдип – не таков… Ведь, зная судьбу, сможет он устроить так, что предначертанное не случится! Конечно же.
Три дня промучился царевич, а на четвертый взломал печать.
«Беги от своего отца, – было начертано в послании уверенной рукой, – ибо если ты встретишься с ним, то убьешь его и женишься на своей матери».
В ужасе выронил Эдип послание. Он?! Убьет отца?! Того, которого любит сильнее, чем себя самого? Нет! Невозможно! И мать родную – в жены… прочь, прочь!
Беги, Эдип!
И ветер хохочет. А чудится – и не ветер это вовсе, но незнакомец, оставшийся у костра. Горька его правда, а сердце давным-давно умерло. Стоит ли верить подобным людям?
Объятый ужасом, покинул Эдип отцовский дворец, тайно ушел, не желая вновь видеть Полиба, взглядом одним боясь причинить ему вред. Дорога сама легла ему под ноги, и была она легка, вела в казавшуюся прежде далекой Беотию.
Он шел пустынной узкой тропинкой между Дельфами и Даулией, как вдруг на повороте встретил колесницу, в которой сидел старец важного вида. Седой и всклоченной была его борода. Грязны волосы, а взгляд – и вовсе безумный.
– Прочь! – закричал старец, замахнувшись на него палкой. – Прочь, грязный оборванец!
И удар обрушился на плечи Эдипа. Горе, которое столько дней туманило ему разум, переродилось в ярость. Выхватил Эдип палку из рук старца и обрушил на его страшную облысевшую голову. Хрустнула кость, и кровь полилась. Страшно закричал возница, хватаясь за копье, но Эдип был быстрее.