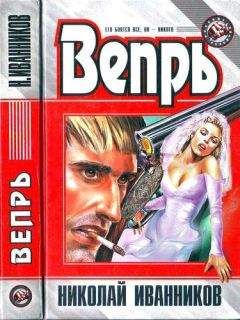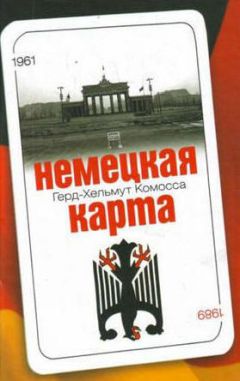Николай Черкашин - Опасная игра
Оба молча кивнули. Еремеев никогда еще не видел шефа в столь взвинченном состоянии и никогда не слышал, чтобы он объяснялся столько жестко и резко.
— Действуйте!
Глава десятая
«СОНЬКИН ДЕНЬ»,
ИЛИ ТЕЩА КУБИКА РУБИКА
Вечером Еремеев вышел на балкон по старой лодочной привычке «взять воздуха» на сон грядущий, собраться с мыслями.
Москва расстилалась перед ним с высоты двадцатого этажа. Гигантский город возжигал мириады своих вольфрамовых нитей — электрическое огнище горящих окон уходило за горизонты любого румба. В этом великом океане людей и вещей предстояло отыскать малахитовую песчинку — яйцо работы Фаберже. Чудо еремеевской профессии состояло в том, что во взбаламученном житейском море песчинку эту отыскать было можно. И нужно. Очень нужно. Олег прекрасно понимал, что Герман Бариевич в этом деле прежде всего рассчитывает на него, на Еремеева, а не на «шефа службы безопасности». Не оправдать доверия значило потерять очень многое. Леонкавалло ничуть не откликнулся на пацифистский призыв Гербария — «мальчики, давайте жить дружно». Всякий раз, когда они встречались глазами, Еремеев чувствовал ледяную пустоту двух направленных в него пистолетных зрачков…
* * *Ему приходилось вести дела «антикваров», воров, специализирующихся на краже предметов искусства. Но тут работали заурядные «электронщики». Имя им — легион. Пасхальное яйцо прихватили случайно, понравилось кому-то, попалось под руку… Эта случайность осложняла дело больше всего. Поди рассчитай, где оно всплывет, это яичко, да и всплывет ли вообще… Аппаратуру толкнут, но за нее не зацепишься.
С утра он лихо подкатил на зеленом «джипе» к родному отделению милиции, которое носило фирменное название «Преображенская застава». Пообещал Махалину тысячедолларовый приз, если тот через свою агентуру наведет его на нужный след.
— Ты что, в частное бюро устроился? — поинтересовался коллега.
— Угадал.
— Хорошо, видать, платят?
— Не жалуюсь.
— Как связь с тобой держать?
Еремеев сообщил телефонный номер Карины. Махалин аккуратно записал его в свою книжку и, полистав ее, набрал номер следственной части отделения милиции «Солянка».
— Витя, Михалин травмирует! Ага! Спасибо… Тут к тебе мой товарищ придет. Вместе работали. Помоги ему, не пожалеешь.
Солянкинский следователь Витя, пижонистый, но, видно, подающий надежды сыщик, весьма заинтригованный призом, обещал подключиться к работе самым серьезным образом.
Еремеев отыскал даже визитку Цикли и позвонил ему.
— Ладно, гражданин начальничек, наведем справки. Но задаточек вперед. Пятьсот баксов. За срочность работы.
— Когда привезти?
— Завтра в семнадцать часов. На Ваганьковском кладбище. У могилы Высоцкого. Место встречи изменить нельзя.
— Лады.
На этом активная часть розыска прервалась, потому что позвонил майор Тимофеев и доложил о прибытии яхты «с личным составом на борту». Еремеев, оставив Карине записку, погнал «джип» на станцию, где на запасных путях отыскал платформу с «Санта Мариной». Дельф сиганул на него прямо сверху, сбил на междупутье и зализал в усмерть.
— Так ему и надо! — гудел сверху, стоя в кокпите раскрепленной и размачтованной яхты Тимофеев. — Нечего друзей под танк бросать!
Следом вылезла Лена. Оба они проделали рекордный пятисуточный путь из Севастополя в Москву в каюте, погруженной на платформу яхты. Как выразился Тимофеев, «зеленые» деньги открыли им «зеленую улицу». Платформу дважды очень удачно подцепляли к товарным составам, и вместо обычных ныне полутора месяцев, добрались менее чем за неделю. По этому поводу на борту «Санта Марины» состоялся торжественный обед, после чего Еремеев, оставив нужную сумму для разгрузки и спуска яхты на воду, отбыл в Москву, заскочив по пути в Засенежье за Артамонычем. Тот, переименовав замечательное творение ювелира Фаберже в «яйцо Беранже», пообещал пошуровать по старым малинам.
* * *Грохот трамваев возле ворот Ваганьковского кладбища вяз в плеске дождя. Серый нудный дождик озарялся вспышками трамвайных дуг; эти голубые «молнии» да грохот чугунных колес превращал его в жалкое подобие отшумевших на Москве летних гроз.
Еремеев терпеливо дожидался в «джипе» назначенного часа. Цикля не опоздал. Он появился у бронзового барда в карденовском плаще и кожаной шляпе.
— Здравствуй, лошадь, я — Буденный! — приветствовал он бывшего «гражданина начальника». Еремеев молча передал ему конверт с задатком. Цикля пересчитал «франки».
— А бутыльманчик захватил?
— Об этом речи не было.
— Как не было? Зачем же мы сюда перлись? Сегодня ж Сонькин день! Ах, да… — досадливо махнул Цикля. — Откуда ж тебе знать!.. Ну, идем в комок, возьмем пару «сабонисов».[21] А то народ нас не поймет.
На прикладбищенском рыночке они взяли две литровые бутылки легкого вина (оба за рулем).
— Что за Сонькин день?
— День рождения Соньки Золотой Ручки. Она же здесь в Ваганах похоронена. Все блатари на могилке ее собираются.
Могилка легендарной воровки оказалась довольно монументальным сооружением, увенчанным мраморной римской богиней — «Сонькой» — под железной ржавой пальмой, стоявшей над памятником в натуральную величину.[22]
На ближайших холмиках, плитах, камнях и скамеечках расположились десятка три блатарей самого разнообразного вида и пошиба. Они потягивали винцо, поплескивали водку на Сонькины камни. У ног мраморной богини стояла корзинка из-под цветов с надписью «На панихиду и реставрацию памятника», полная пятидесятитысячных купюр. Ствол железной пальмы пестрел множеством ленточек, завязанных «на фарт», воровское счастье.
Циклю здесь знали, приподнимали шляпы, пожимали руки. Он солидно пошушукался с пожилыми, хорошо одетыми мужиками и, получив, видимо, разрешение, встал под пальму.
— Господа фраера! Всех с праздничком! Прошу прощения за гвоздь в тыкву, но триста баксов за одно слово «где»?
— Чего где! — послышались голоса. — Кончай на макароны выделываться, Цикля!
— Будь проще.
— Чего шакалишь?
Выждав тишину, Цикля сообщил:
— Позавчера на Солянке почистили хазу. Дом, где магазин «Балтика». Работали по «видакам» и «ящикам». Но взяли яйцо.
— Чего, чего? — послышались смешки.
— Хреновину из малахита в серебре. Вроде пасхального яйца. Внутри — церковь. Три сотни баксов, кто скажет где, и три куска «зеленых», кто вернет взад.
Поминки притихли, потом загалдели. Приглашенный аккордеонист рванул «Мурку». Присев на ствол спиленного дерева, Цикля наполнил белые пластмассовые стаканы, снятые с прутьев чьей-то оградки, фиолетовым ежевичным вином.
— Ну давай, — протянул он стаканчик Еремееву. — За Софью Иванну нашу, златорукую.
Дождик не унимался, а народ все прибывал. Одни чинно здоровались, другие крепко обнимались. Со стороны казалось, будто собираются на сходку ветераны одного предприятия или болельщики одного футбольного клуба.
Цикля уже поглядывал на часы, давая понять, что пора закругляться, когда к ним подошел златозубый, губастый парень в белой куртке с красными молниями. Лоб уродовал ожоговый рубец.
— Вы, что ль, насчет Солянки?
— Мы, мы! — с надеждой подтвердил Еремеев.
— Так вот, ищите свое яйцо на вернисаже. В Измайлово.
— Точно знаешь? — впился в него Цикля.
Губастый замялся, криво усмехнулся.
— Точно только Бог знает… В общем, ищите тещу Кубика Рубика. Кубаря нашего знаете?
— Не имели чести! — картинно напыжился Цикля и протянул парню свой стаканчик, наполненный остатками вина. Тот, уже под легким газом, принял угощенье.
— Теща у него заикается. Грудастая такая. Она всякую хурду-мурду продает. Обычно посреди Главной аллеи… Да, найдете.
Цикля поиграл бровями, оценивая информацию.
— Ну ладно, это лучше, чем ничего… Но за неточность наводки сто с костями. Отслюнявь ему двести!
Еремеев отдал парню две стодолларовые купюры.
— Хватит?
Зеленые бумажки исчезли под красной молнией и белая куртка неспешно удалилась.
— Найдешь яйцо, будешь должен триста, — милостиво скостил сумму гонорара Цикля.
Они разъехались на своих машинах в разные стороны.
Свет подфарников дымился водяной пылью дождя.
* * *Зато утро выдалось погожим. После недели дождей Москва сушила свои газоны на скупом солнце бабьего лета.
Прочесывать вернисаж Еремеев призвал Леонида Татевосяна, Артамоныча и Тимофеева. Он припарковал «джип» на платной стоянке и все четверо растворились в колышущемся людском море.
Измайловский вернисаж, одна из первых и обширнейших московских толкучек, разительно напоминал послевоенный немецкий «шварцмаркт», каким его представлял себе Еремеев по рассказам отца. Продавали все и продавалось все, как будто на аллею старого парка вытряхнули содержимое всех московских чуланов, лавок старьевщиков, музейных запасников, художественных студий, книжных развалов, армейских цейхгаузов, церковных ризниц…