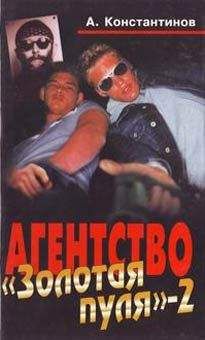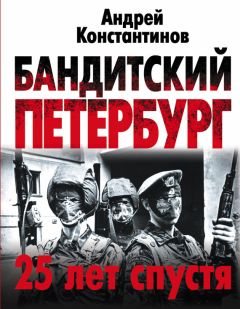Андрей Константинов - Полукровка. Эхо проклятия
Старухи сели, едва касаясь головами друг друга, прикрыли глаза коричневыми веками, и полилась тихая песня, от которой даже у не понимающей слов Самсут полились слезы, а внутри поднялось какое-то неведомое грозное чувство.
Качает люльку в дальней спальне
Старуха-мать, не зная сна,
И клонит голову печально,
Текучей мглой окружена.
Очаг мерцает еле-еле,
Она одна на страже здесь,
Молчит Младенец в колыбели,
Младенец, что зовется Месть…
Ему не нужен шепот нежный.
Не нужно песни колдовство.
Огонь бушующий, мятежный
В глазах расширенных его…
Сурово сомкнутые губы
Случайный крик не разожмет.
В тиши, в кедровых яслях грубых.
Спаситель новый часа ждет…
Наутро Самсут проснулась с каким-то странным неопределенным ощущением. То ей казалось, что она видела некий странный сон, а потом — что принимала участие в некоем непонятном спектакле, или даже просто перенеслась на машине времени в прошлое. Впрочем, ощущение было не противное и не страшное, а, скорее, загадочное. Но другое вдруг обеспокоило молодую женщину. Что ей теперь делать? Конечно, заманчиво просто какое-то время пожить здесь, посмотреть Афины, а может быть, и еще что-нибудь, но мама с Ванькой уже давно ждут ее в Ставище. Да и вообще, пора и честь знать. Как там говорил Евагор — будь проклят гость, не ушедший до полуночи? Самсут твердо решила, что, возможно, побудет у гостеприимных Тер-Петросянов еще пару дней, но сегодня же первым делом найдет кассы и купит билет до Петербурга.
Вероятно, ее решение было правильным, поскольку, как только она окончательно утвердилась в своем решении, дверь неслышно открылась, и в студио, словно сам по себе, въехал сервировочный столик с завтраком. Самсут с удовольствием съела и йогурт с медом, и какие-то пироги. Во всех блюдах явственно читался легкий привкус трав и оливкового масла, и настроение ее тоже стало легким и беспечным. Надев бирюзовый сарафан, делавший ее похожей одновременно и на древнюю гречанку, и на русскую деревенскую красавицу, она вышла в парк, куда из студио вела, как оказалось, отдельная лестница.
Солнце только поднималось, сосны благоухали еще не резко, а вкрадчиво и нежно, а в небе над Парфеноном расползалась белая линия реактивного самолета. Помня, откуда они приехали вчера, Самсут обогнула спящую виллу и вышла к бассейну. Его синяя гладь пенилась дорожками — видимо, так рано поднялась не она одна. Не желая в такое утро, когда находишься в редкой гармонии с собой, ни с кем разговаривать, Самсут решила быстро проскользнуть мимо, но среди всплесков услышала спокойное, но властное:
— Самсут-джан!
Она невольно остановилась, и к бортику бассейна, блестя на солнце смуглой от природы кожей, не то в морской пене, не то покрытый седым курчавым волосом, выбрался сам старик Самвел. Он и вправду казался ожившим греческим богом, каким-нибудь постаревшим за две тысячи лет Посейдоном. Но видение тут же рассеялось, как только старик поспешно накинул белоснежный халат и привычно сунул в уголок рта потухшую сигару.
— Каждый день по сигаре, бутылку коньяка, а главное — никакой физкультуры, — усмехнулся он, поймав удивленный взгляд гостьи. — Старик Черчилль был прав, но мой грех — без воды не могу. Рад тебя видеть, Самсут-джан, а еще больше — рад видеть беспечность на твоем лице. Женщины и дети должны быть беспечными, а не заглядывать в лицо богам — это, увы или к счастью, прерогатива мужчин. Пойдем, я как раз собирался поговорить с тобой.
Они сели в кресла на краю бассейна и какое-то время просто молчали.
— Знаю, — наконец, заговорил Самвел, — знаю, что хочешь уехать, несмотря на мою вчерашнюю просьбу. — Он нахмурился. — Нуник очень просила, чтобы ты осталась — уж очень ты напоминаешь ей ее дочку. Каринэ погибла в автокатастрофе тридцать два года назад.
— Как раз когда я родилась, — потрясенно прошептала Самсут.
— Вот видишь. Но дело не в этом. То есть не только в этом. Я — человек дела, и одними сантиментами меня не очень тронешь, пусть они и касаются моей покойной племянницы. Я предлагаю тебе совсем иное, джан, — работу. Настоящую работу. Высокооплачиваемую работу. Работу, от которой в Греции мало кто отказался бы.
— Но я всего лишь учительница английского языка в простой петербургской школе, — тихо сказала Самсут, тут же вспомнив, что ее заявление об уходе наверняка уже подписано и подколото.
Седые кустистые брови поползли вверх.
— Учительница? В школе? Правду говорят, что русские так богаты, что могут себе позволить разбрасываться такими женщинами, заставляя их стоять с указкой перед парой дюжин оболтусов! Эти благородные линии лба, эти глаза — черные звезды, этот породистый нос с ноздрями, как у арабской кобылы… — Самсут густо покраснела, чувствуя себя и впрямь лошадью на торгах, но быстро заставила себя вспомнить, что перед ней все-таки восточный мужчина. — Э-э-э, не красней, джан, уж в арабских кобылах я знаю толк больше, чем кто-нибудь другой здесь! Я давно искал, я ждал такого лица, в котором соединились бы Запад и Восток. — «Господи, неужели я опять попала в какую-то гадкую историю?! — внутренне ужаснулась Самсут. — Неужели и этот, такой добрый и благородный на вид старик, хочет меня продать?! Нет, второй раз я такого не выдержу». Но лицо Самсут еще с самого детства выражало ее внутреннее состояние даже против собственной воли, и Самвел сразу сменил тон: — Успокойся, Самсут-джан, я просто предлагаю тебе контракт как рекламному лицу фирмы «Фюмэ».
Самсут окончательно растерялась, ибо, честно говоря, плохо представляла себе, что же такое «рекламное лицо». Ей вспомнились длинноногие плоскогрудые девочки на каких-то джинсах, ухоженные красотки на буклетах «Эйвона», которым она иногда позволяла себе пользоваться, но какое отношение они имеют к ней, Самсут, пусть даже немного загоревшей и немного отдохнувшей? Старик, наверное, сошел с ума…
Но Самвел мягко взял ее руку в свою:
— Я понимаю, ответить «да» сразу не так просто, но я предлагаю хорошие деньги, двести пятьдесят тысяч долларов в год.
— Сколько?! — еле выговорила Самсут.
— Ты оцениваешь себя дороже?
— О, нет-нет, но я… Я не знаю… Меня ждут мама и сын в Ставище…
— Где?
— Это неважно. О, господи! Но я же ничего не умею! И потом… фигура, мне же не семнадцать… — Самсут совсем некстати вспомнила о маленьком шраме на груди, оставшемся после мастита, и совсем смешалась. — Нет, я не могу… Это смешно… невозможно…
Самвел отпустил руку, которую Самсут, потрясенная предложением, даже не пыталась отнять.
— Я же сказал тебе, джан, пока отдохни и ни о чем не думай. Решение должно созреть в тебе, как плод. И я надеюсь, в любом случае — это будет мудрое решение, достойное дочери армянского народа.
* * *Самвел встал и ушел за виллу, оставив Самсут в полном смятении чувств. Куда исчезла легкость, окрылявшая ее полчаса назад? Решимость возвращаться домой? Но как же мама и Ванька? Она, как потерянная, застыла над успокоившейся гладью бассейна и пришла в себя только от знакомого голоса:
— О, Самсут-джан, кажется, у вас нет купальника? Это не проблема, — и, обернувшись, Самсут увидела Савву, на ходу протягивающего ей пакет с купальником. — Беседовали со стариком с утра пораньше? Это правильно. А теперь — присоединяйтесь!
С последними словами Савва, скинув халат, радостно прыгнул в голубую воду.
Неожиданно Самсут подумала, что Савва, с его знанием дела и русского языка, сейчас, пожалуй, единственный, кто может помочь ей разобраться в предложении Самвела. А заодно он, может быть, покажет ей и город.
После купания они отправились в центр, где на них сразу навалился тяжелый, душный городской смог.
— Но как же вчера я шла пешком? — удивилась Самсут.
— Вчера было воскресенье, — усмехнулся Савва. — И вообще, все эти Акрополи, Парфеноны и Эрехтейоны вы еще увидите, а я вам как отчасти соотечественнице лучше покажу то, чего другие не видят. — Грек казался самим воплощением радушия, и то, что он показывал, было действительно интересно, но Самсут почему-то очень смущали его круглые, черные, как маслины, глаза, в которых невозможно было ничего прочитать. Сначала они отправились в квартал Монастираки, где, казалось, собрались люди со всего света. Гремели магнитофоны, грохотали поезда надземки, дымились мангалы с сувлаки и жареными каштанами. И в гомоне толпы Самсут все чаще разбирала русские слова, вроде: «Драхму, говорю, гони, драхму!»
— Что это? — удивилась она.
— Это русские ряды, здесь живут и торгуют руссопонди, то есть понтийские эллины, те самые, которых вы повыкинули из России. Я часто бываю здесь по делам. Кстати, именно здесь продают «самые лучшие греческие шубы», — усмехнулся Савва. — Это на всякий случай.