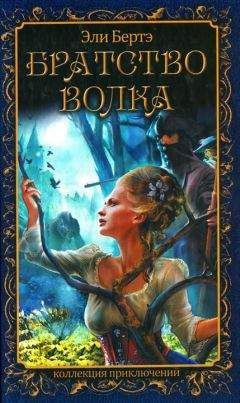Екатерина Лесина - Ошейник Жеводанского зверя
Чтоб ему сдохнуть... чтоб мне сдохнуть... всему миру...
Выстрела не было! Не было выстрела! Показалось. Больная голова. Чужая голова. Соберись, мать же твою разэтак! Почему не нападает? Ждет. Чего?
Ничего. Приближается. Плывет тенью-тенюшкой, накроет с головой. Сожрет.
Соберись. Руки зудят. Зудят-зудят-зудят. Пальцы. Тяжелые. Хорошо. Поднять и направить. В тень... в тень... крючок. Давай же. Проклятье, как тяжело... медленно... но тень застыла. Так тебе, сволочь!
Так тебе и надо!
В тот миг я, Пьер Шастель, кипя гневом, не сумел сдержаться. Я проклял де Моранжа и отца, который послушал этого демона. Я страстно говорил об искуплении и покаянии, о милосердии и прощении, которого достоин каждый раскаявшийся, Антуан же слушал, но лишь затем, чтобы прервать меня:
– Я хотел получить прощение и раскаивался, но как узнать, что раскаяние истинно? Кровью за кровь, смертью плоти за смерть чужую...
– Убийством, – бросил я в ответ.
– Тогда я не думал об убийстве, я лишь хотел... хотел стать прежним собой. Я верил графу, я верил отцу. А потом... потом вдруг стало поздно что-то менять.
– Зачем они убивали? – Я осторожно придвинулся к Антуану, обходя чудовище, свернувшееся у его ног. Теперь я имел возможность хорошенько разглядеть его, добавляя к прежнему портрету новые черты: короткая, но густая шерсть была неровной, на плечах и массивной шее она шла черными пятнами, а те сливались в гриву, наподобие конской. Широкий лоб свидетельствовал о немалом уме существа, а клыки, видные даже при закрытой пасти, о плотоядной его натуре.
– Она не тронет тебя, – успокоил Антуан, проводя твари по хребту, она же, изогнувшись, лизнула его руку. – А убивали... во имя Господа. Во имя истинной веры. Во изгнание еретиков из Жеводана... де Моранжа говорил, что сначала следует явить Зверя, а после его изничтожить, но так, чтобы было ясно – не человеческая, но Божья воля подарила прощение раскаявшимся.
– И ради этого? Чтобы изгнать гугенотов? Чтобы вернуть иезуитов? Вот только ради этого?! – Я вновь сорвался на крик, и тварь отозвалась утробным рычанием. Антуан же продолжал твердить заученное:
– Ради жизни вечной, ради спасения от геенны огненной, ради предотвращения Апокалипсиса, во имя всего мира... Король должен был понять, что цари земные прах пред Царем Небесным, что истинно властвует тот, кто властвует над душами, а ключи от Царствия Небесного по-прежнему в руках Рыбака.
За сим я закончу эту часть повествования. Мы проговорили до утра, я узнал, что Антуан научил отца и графа управляться со зверьми и, послушные тайному ведовству, те стали послушны. Я увидел ошейник – тонкую шелковую нить, обвившую шею Моник и, по словам Антуана, способную удержать ее лучше всяких цепей. Я спросил про де Ботерна и получил ответ, что волк, убитый им, был чемсетом, одним из пары, коей пожертвовал де Моранжа, желая избавиться от королевских егерей.
Я задавал много вопросов и получал много ответов, но ни один из них не принес радости и успокоения. А под утро зверь вдруг вскочил, заметался по хижине, а после, подлетев к Антуану, лизнул его в щеку и убежал.
Зверь прощался. И мы оба это поняли.
– Сегодня не станет ее. Отец зовет. Он знает, что не стану удерживать, что так будет лучше... Ты ведь поможешь мне, Пьер? Сам я не сумею. – Взяв мушкет, он подал его мне. – Я хотел... я давно хотел... но самоубийцы точно прокляты, а так у меня будет хоть какой-то шанс на спасение. Потом, после Страшного суда. А если нет, то...
– Ты хочешь, чтобы я тебя убил?!
– Сегодня отец станет героем. А я помехой славе. Что меня ждет? Очередное подземелье, на этот раз под Сент-Альбаном? Жизнь во тьме? Я... я снова сломаюсь. Я не выдержу такого. Пожалуйста...
– Нет!
– Год-два, и привезут нового зверя. Скажут: учи, Антуан, возьми шесть сутей: шум кошачьих шагов, женскую бороду, корни гор, медвежьи жилы, рыбье дыхание и птичью слюну. Сделай все, как учил тебя сын потерянного народа... – Вложив мушкет мне в руки, он упер дуло себе в грудь. — И я сделаю. Я слишком слаб, чтобы противиться. Я сплету ошейник... ты его сохрани, ладно? Он любого зверя спеленает, подчинит человеку.
– Не надо. – Я попытался отбросить мушкет, но руки мои перестали слушаться.
Антуан же погладил дуло.
– Я ведь мог отравить их. Или застрелить. Или еще что-нибудь сделать, но не сделал. Не сумел. Нужно было кого-то любить, я любил зверей. И позволял им убивать...
– Ты не виноват.
– Виноват. Пьер, не тяни. Мне... мне тяжело. Мне тогда придется самому. Последний шанс, пожалуйста, Пьер, не лишай его.
– Мы уедем... уедем отсюда. Из Лангедока. Из Франции...
– Разве от себя уедешь? Нет, Пьер, все закончилось. Мне давно пора было умереть, и...
И я, Пьер Шастель, девятнадцатого июня года 1767-го от Рождества Христова, нарушив все законы, и Божьи, и человеческие, убил своего горячо любимого брата Антуана во имя надежды и спасения его бессмертной души. Во имя искупления всех душ, загубленных Зверем. Во имя света негасимого, который суть милосердие.
И да простят меня Отец, Сын и Дух Святой, а Пресвятая Дева пологом укроет слезы сердца...
Таково мое признание, сделанное спустя годы.
Я слышал выстрел. Я сидел на краю подоконника и смотрел вниз. Калькутта ждала. Калькутта раскрыла объятья, готовая принять блудного сына, прижать его к продымленной груди и… раздавить, разом грехи отпуская.
Калькутта манила серыми реками и серыми кораблями, что, все так же неспешно, ползли к портам подъездов. Калькутта гудела, кричала, звала и рыдала, манила грязным кружевом листвы и белыми парусами простыней, что бессильно раздувались в попытке сдвинуть дом.
Моя Калькутта. Мой дом. Мой мир.
Мое возвращение.
А в квартире тишина. Получилось у меня последнее представление? Я ведь старался. Если уходить, то... неужели, я уже тогда думал об уходе? Ложь! Тимур думал, а я...
Я сижу на подоконнике и смотрю на Калькутту, а она, становясь пресловутой бездной, пялится на меня. Спрашивает:
– За что ты убил брата своего?
– Он меня предал.
– И что с того?
– Ничего. Просто... просто нам стало слишком сложно вдвоем.
И давлюсь дымом, потому как понимаю – одному еще сложнее. Ничего, это недолго, это на пару затяжек сигареты, а там мы встретимся, моя Калькутта.
Ты хранишь память. Стефа и Вожак. Танечка. Йолина скрипка, печальный голос совести, что вдруг очнулась. Тимур, о котором думать не хочу, но не думать не получается. Я сам, прежний, неозверевший, неизмененный...
Последний глоток дыма. Сигарету вниз. Подняться на подоконник...
И все-таки получилось у меня задуманное?
Да, в общем-то, плевать...
Привет, Калькутта, я снова дома!
В этом доме двери распахнуты настежь, перекрывают коридор, почти касаются друг друга, выпускают на волю сквозняки.
В этом доме все еще живут воспоминания и страхи, но Ирочка справится. Ирочка теперь другая. Сильная. Она не станет продавать квартиру, как предлагает Блохов. Не станет переселять сюда семью, как того желают бабка и мать. Не станет делать ремонт... ей и так хорошо.
– Все-таки ты дура. – Лешка выбрался из комнаты, ходит с трудом, опираясь на трость, голова перебинтована, но уверяет, что мозг не задет. – На кой тебе это?
Нужно. Ирочке очень нужно что-то, что не позволит забыть и снова измениться в себя прежнюю.
– Вот, – она поддержала Лешку за рукав. – Вот тут он Блохова держал. А дальше по коридору меня. Представляешь, думал, что Блохов меня застрелит... а он промахнулся! Промахнулся!
– Тише.
Она разве громко? Не громко. Вот выстрел громкий был, оглушающий. И пуля у самого уха свистнула, точно кто-то ветерком лизнул. И тогда Ирочка совсем испугалась и со страху кинулась на Блохова. Пистолет отобрала. Сама едва не убила... била-била – не убила. Рукоятью по лицу, по рукам, до крови и хруста. Страшно вспоминать.
И стыдно.
Ей потом сказали, что Блохов был не в себе, что его накачали, а ее напугали. Последний спектакль. И еще сказали, будто бы Марат выпрыгнул из окна.
Он – и из окна? Зачем?
А потом и про завещание всплыло. Совсем непонятно.
– Понятно, – отмахнулся Лешка, которому – только ему одному – Ирочка рассказала все. – Как раз и понятно. Смотри, их же на самом деле двое было. Двое!
Тимур и Марат. Марат и Тимур. Марат главный, Марат настоящий, а Тимур – иллюзия.
– Во-первых, генетика. Шастель был или фанатиком, или шизофреником. Во-вторых, среда. Мамаша-алкоголичка, собачья стая, тетка, которую любил, а она умерла. Остался в одиночестве. Вот и создал себе брата. Сначала, полагаю, они одинаковыми были, но чем дальше, тем больше отличий.