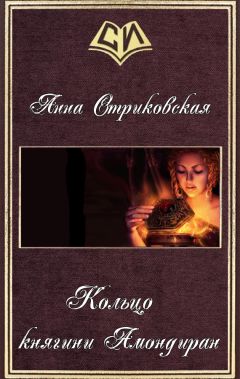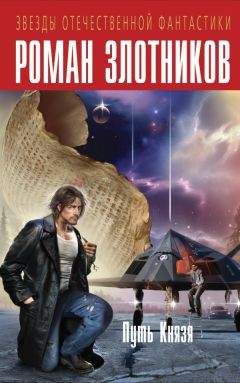Екатерина Лесина - Кольцо князя-оборотня
– Буду. – А руки она все-таки под стол спрятала. Стесняется? Стыдится? Чего? Усилием воли Егор заставил себя вернуться к неприятным воспоминаниям. Он рассказал ей все, как было, и про звонок Татьяны, и про то, как он спешил, но застрял в пробке и поэтому не успел, и про старуху-соседку, которая рассказала про «друзей брата», и про похороны, про гроб, ресторан и памятник, которым он пытался откупиться от собственной совести.
Вместе с рассказом вернулась и ненависть. Правильно, нечего жалеть эту кошку драную, она сама полезла в гости к Богу, а Татьяна была ни в чем не виновата, она хотела жить и беспокоилась о брате, а теперь Альдова обвиняют в смерти этого самого брата. И еще в двух смертях. Или даже в трех, если привяжут и Татьяну.
Но почему же его все-таки отпустили?
Ведьма
Наверное, догадайся Альдов, что я его жалею, – убил бы на месте. Но, к счастью, подобные мысли не приходили ему в голову.
Четыре черненьких чумазеньких чертенка… Из милиции я уходила, поджав хвост. Это надо было столько глупостей натворить. Поехала. Нервы следователю трепала, у бедолаги аж уши покраснели и щеки пятнами пошли. Он понимал, что я вру, а все одно слушал. А мог бы и посадить. И Егору мое выступление не помогло. Впрочем, его же отпустили. Я ждала весь вечер – то ли звонка от почтеннейшего Сергея Федоровича, то ли его визита с извинениями, то ли следователя Васютку, пришедшего арестовать меня за вранье. Сидела и ждала хоть чего-нибудь, и заснула, утомленная ожиданием. Проснулась же от взгляда.
Альдов, сидя на корточках возле кровати, внимательно смотрел на меня. Он просидел минуты две и ушел мыться, мне же хотелось петь от радости. Выпустили.
Четыре черненьких… Он тоже думает о неизвестном враге. Чашка утопает в широкой лапе-ладони, на лбу две параллельные морщины, шрам над левой бровью побелел, челюсть слегка вперед выдвинута. К бою готовится, человек-медведь.
Или волк?
Я вовремя вспомнила о перстне, который следовало вернуть хозяину, однако расставаться с необычной игрушкой не хотелось. С золотым волком в кармане я чувствовала себя защищенной.
– Я одного понять не могу, – признался Альдов, – зачем?
– Что зачем?
– Зачем кому-то понадобилось подставлять меня? Вот смотри, Сергея убрали, поскольку он почти докопался до правды. Андрея – потому что стал мешать, рано или поздно, но я бы до него добрался и выдрал правду. Случайно или специально, но обоих застрелили из моего пистолета. Причем оружие я потерял именно тогда, когда встречался с Андреем. Понятно?
– Угу.
– Дальше. Пашка. Он хотел кинуть меня на бабки, сама видела, а когда не получилось, разозлился. Он придумал ответный ход, и боюсь, если бы не пуля в голове, его месть удалась бы. Но зачем убивать его?
– Тоже мешал? Мог на след вывести?
– Какой след? След чего? Если у Пашки имелся компаньон, то он бы подождал, пока ты подпишешь документы, а уже потом стрелял. Понимаешь?
– Не очень. – Перстень в кулаке согревал. Я кожей чувствовала дружелюбную волчью улыбку.
– Ну как! – Егор затарабанил ладонями по коленям, не сиделось ему спокойно: нервничал или просто злился от моей тупости? – Твоя подпись – это очень много. Ты бы отдала фирму Пашке. Или другому человеку, на которого он бы указал. Пашка с компаньоном получили бы «Агидель», только после этого убийство имеет смысл. Мошенники не поделили награбленное, в результате чего появился труп. Печально, но объяснимо. А труп появился ДО ограбления. Понимаешь? До!
– Понимаю.
– Если Пашка мешал этому неизвестному второму, то, все одно, убить его можно было и после. Час ничего бы не изменил. Даже не час – минута. И два трупа: неверная жена и молодой любовник. А я стал бы главным подозреваемым. Пришел, увидел и в приступе ярости прикончил обоих. Как тебе такой вариант?
Честно говоря, хуже некуда. Ни подозреваемой, ни убитой мне быть не хотелось. Но в словах Егора был смысл. Действительно, почему Кускова убили до встречи?
– Глупо получается. Если я кому-то мешаю, то проще убить меня, чем устраивать подобный спектакль.
– А если дело не в тебе? Если дело в нем?
– В ком?
– В четвертом черте?
– Что?
– Ну, – я смутилась, – знаешь, есть такая детская считалочка: четыре черненьких чумазеньких чертенка чертили черными чернилами чертеж. Трое убиты, осталось найти четвертого, он знает чертеж и расскажет о нем. А я твой перстень нашла.
Повинуясь импульсу, я выложила находку на стол. При свете электрической лампы золото походило на латунь, а волк выглядел совсем уж ненастоящим.
– Спасибо. – Альдов сгреб кольцо. – Я и не заметил, что потерял его. От отца досталось. А ему от деда.
– Семейная реликвия?
Егор кивнул.
– С ним даже легенда связана. Будто бы мой прапрапрадед когда-то украл этот перстень у некоего князя-оборотня, а с ним и проклятие на род навлек. Теперь все мужчины умирают не своей смертью, а души их якобы в зверей превращаются. – Альдов говорил все это с насмешкой, точно желая подчеркнуть, что всерьез к легенде, и уж тем более к проклятию, не относится, лишь отдает дань памяти родовой. – А снять проклятие может лишь женщина-птица…
Он внезапно помрачнел и с непонятной мне ненавистью сжал перстень.
– Скажи, ведьма, ты веришь в проклятия?
– Нет.
– А я верю. Глупо, да? Но еще глупее, когда они начинают сбываться. Моего отца убили. Зарезали какие-то малолетки из-за десяти рублей да шапки из лисьего меха. Дед на войне погиб. Прадед в лагере. И я вот чувствую – недолго уже осталось. Знать бы, что мой предок у того князя украл…
– Надежду. – Я вдруг вспомнила ту легенду, всю, целиком, от первого до последнего слова. – Надежду на спасение. А еще любовь. И слово свое сдержать не сумел. Мне бабушка рассказывала, давно, я еще ребенком была, любила страшные сказки, но выросла и забыла. А ты сейчас сказал, и я вспомнила. У этого графа, который не по своей воле князем стал, еще фамилия смешная такая. Лук. Луков или Лучков.
– Луковский. Граф Луковский.
От удивления я моргнула, Егор же, усмехнувшись, пояснил.
– Моя мать… Они расписаться с отцом не успели, убили его за пару дней до свадьбы, вот она и записала меня на свою фамилию, хотя всю жизнь твердила, что я не Альдов, а Луковский. Графом, говоришь, был тот, первый проклятый? И слово не сдержал… Бывает.
Егора моя осведомленность, похоже, не удивляла, хотя и не радовала. А я и не обязана радовать его, теперь вот буду весь вечер мучиться воспоминаниями, которые и воспоминаниями-то назвать сложно. Так, обрывки картинок из прошлого, то ли сны, то ли явь. Оплывающая свеча, длинная бледно-желтая колонна из воска, хвостик-фитилек с крошечным кусочком пламени и горячие полупрозрачные капли, стекающие к подножию. Пахнет сеном и дымом. Святые в углу – узкие лица и неправдоподобно огромные глаза – хмурятся, а по деревянной занозистой шкуре стола пляшут тени. Мне страшно и интересно. Накрываю тень ладошкой, но она, егоза, клубком темноты вытекает сквозь пальцы.
– Нельзя с ночью играть, – бабушка качает головой. У нее черные-черные глаза, как две огромные ягоды ежевики, как шкурка крота, которого вчера притащил Дружок, как ночь за окном. В них отражается пламя, святые и я.
– Ба, а расскажи сказку! Про князя. И про Элге-птицу. И про графа, который чужое украл!
– Так ты ж знаешь.
Конечно, знаю, но мне все равно хочется услышать еще раз, или два, или десять. Я готова слушать старую легенду тысячу раз. Я представляла себя Элге и смело принимала судьбоносное решение и за нее, и за князя, и за всех остальных участников истории.
– Давным-давно, – начинает бабушка, и тени послушно садятся на ее морщинистую ладонь, тени тоже любят сказки, – на далеких Урганских болотах жил-был князь молодой…
Хорошее было время. Но почему я почти ничего не помню? Даже бабушку. Словно некто всемогущий и наглый запер от меня мою же память. Звучит странно, но с другой стороны – я не помню, где она жила, не помню, было ли у нее хозяйство, и если было, то какое. И дом тоже не помню. И еще понятия не имею, что в конечном итоге с бабушкой произошло – умерла она или уехала?
Все, что у меня осталось от того прошлого, – свеча, иконы и полузабытая история. Болот и тех нет, кажется, бабушка говорила, будто их осушили, чтобы распахать под поля. Точно. Еще она смеялась, дескать, земля-матушка не простит обиды, сожрет и урожай, и дерзких людишек, вздумавших перекраивать мир по-своему.
Как же звали мою бабушку… Не помню… Зато помню странную беседу.
– Одолень-трава зло любое одолеет, из сердца ли, из дома ли метлой поганою повыметет. Борец-трава – трава мужская, строгая, не любит женскую руку. Полынь-матушка – травка нужная… А вот этот корень – особый. Он душу в теле задержать способен. Или, наоборот, на волюшку отпустить, в небо.
– А я тоже в небо хочу!
– Знаю, деточка… – Теплая рука гладит волосы, а глаза цвета ягод ежевики тепло улыбаются. – Птичка-синичка моя. Нельзя тебе в небо, рано еще, вот подрастешь, тогда и… – В уголках глаз появляются слезы, и бабушка торопливо смахивает их рукой.