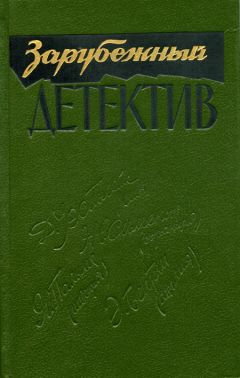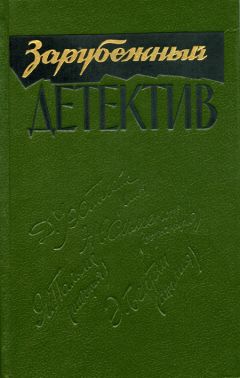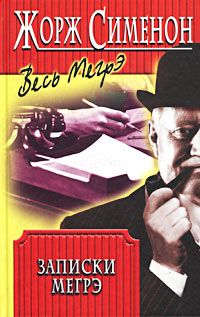Жорж Сименон - Время Анаис
— Поставлю вопрос иначе. По какой причине в течение нескольких месяцев ты думал о том, чтобы убить Сержа Николя?
Открыв было рот, Бош тотчас закрыл его. Он бы не смог объяснить.
— Не можешь ответить?
— Нет.
— Тогда растолкуй, как получилось, что совсем недавно, вернее, вчера, поскольку уже за полночь, ты вдруг решил его убить? Насколько я понимаю, прежде ты не знал, когда это произойдет, хотя и был уверен, что это рано или поздно случится. Ведь когда ты поехал на улицу Дарю вчера вечером, ты не был еще готов к убийству. Оружия у тебя не было, о том, что на ночном столике у Сержа Николя лежит револьвер, ты не знал. Так ведь?
— Так.
— Однако, увидев револьвер, ты решил действовать не откладывая?
— Нет.
— А что произошло?
— Не знаю.
— Погоди-ка, погоди. Кажется, я догадываюсь, в чем дело. Уж не собираешься ли ты прикинуться сумасшедшим?
— Я не сумасшедший.
— А ты был в своем уме, когда стрелял?
— Да.
— Ты отдавал себе отчет в том, что, намереваясь убить человека, совершаешь преступление?
— Да.
— Тогда я ничего не понимаю. Это все, что ты можешь сказать?
— Я стараюсь как можно точнее ответить на ваши вопросы. Готов продолжать.
— Но ты не отвечаешь на главный вопрос.
Как и прежде, с видом воспитанного мальчика Бош произнес:
— Прошу прощения. — Потом, отвернувшись, негромко прибавил: — Я голоден.
В том, какую реакцию вызовут его слова, Бош не ошибся. Удивленный, чуть ли не возмущенный столь естественной потребностью, полицейский нахмурился.
— Ах, вот как, ты голоден!
С раздраженным видом инспектор поднялся и, увидев шоколад в надорванной обертке, швырнул его на колени арестованному. Минут десять перечитывал за столом отпечатанные на машинке листки, отмечая некоторые фразы карандашом и сравнивая напечатанное с записями, сделанными, видно, во время телефонных разговоров с Парижем.
— Нельзя ли немного воды? — спросил Бош, когда инспектор закончил чтение.
Полицейский сходил за водой в коридор. Еще не привыкший к наручникам, половину стакана Бош пролил на брюки.
— Спасибо. Простите, что причинил вам столько беспокойства.
Пожав плечами, инспектор отвернулся, затем вновь уселся за машинку. Похоже, его отношение к задержанному как-то изменилось. Теперь он вел допрос ровным, спокойным голосом.
— Тебя зовут Альбер Бош и, судя по моим записям, тебе двадцать семь лет.
— Да, мсье.
В Париже уже провели дознание, понял Бош, и Фернанду, должно быть, также допросили.
— Место рождения?
— Монпелье.
— Чем занимался отец?
— Был старшим кладовщиком в торговой фирме по оптовой продаже москательных товаров. Потом воевал, вернулся без руки…
Инспектору это было неинтересно.
— Он еще жив?
— Умер семь лет назад.
— А мать?
— Жива.
— Проживает в Париже?
— Нет, в Гро-дю-Руа, департамент Гар. Мы там почти все время жили.
— Братья, сестры есть?
— Есть сестра. Замужем, проживает в Марселе.
— Женат?
— Четыре года женат.
— В Париже женился?
— Да. Я переехал туда почти сразу после смерти отца.
— Чем занимался, прежде чем начать работать у Сержа Николя?
— Был журналистом. Дела шли неплохо.
Допрос был прерван телефонным звонком. Инспектор перестал печатать на машинке и подошел к письменному столу.
— Алло! Да. Я у аппарата. Да, он здесь. Нет, не знаю. То, что вы мне велели, я сделал. Нет. Практически закончил. Задавал вопросы по установлению личности. Если у вас есть время, лучше зачитаю протокол допроса… — Инспектор пододвинул листок к себе. — Слушаете? Сейчас прочту. Печатал начерно, потом приведу в порядок. Итак:
ВОПРОС: — Ты пьян?
ОТВЕТ: — Нет.
ВОПРОС: — Ты понимаешь, о чем я тебя спрашиваю?
ОТВЕТ: — Да. Пожалуй.
Затем вместо слов «вопрос» и «ответ» инспектор произносил лишь буквы «в» и «о».
Разговор, казалось, никогда не кончится. Слова нанизывались, точно четки. Голос инспектора звучал монотонно, напоминая Альберу болтовню жандармов. Доносились лишь обрывки фраз, смысл которых был ему малопонятен.
Бош был настолько удручен, что не обращал уже внимания на происходящее. Пусть эти люди делают, что им заблагорассудится, — ни отвечать, ни даже слушать он их больше не желает.
— … Вот все, что удалось выяснить. Спокоен. Говорит, что в трактире в Энгране выпил четыре стопки водки, но на пьяного не похож. В лесу, когда бригадир осматривал его машину, по нужде попросился. Минуту назад заявил, что голоден, поел шоколаду. И все. Что вы говорите? Простите, я не знал, что она у вас в кабинете. Об этом разговору не было. Если хотите, выясню. Не вешайте трубку.
Повернувшись к Бошу, инспектор спросил:
— Когда твоя жена стала любовницей Сержа Николя?
— Не знаю.
— Не знаешь, что она была его любовницей?
— Я не то имел в виду. Не знаю, когда у них связь возникла.
Затем полицейский сказал в трубку:
— Алло, шеф… Да, он был в курсе. Что? Секунду… Когда ты об этом узнал? — спросил он у арестованного.
— Давно.
— Несколько месяцев тому назад?
— Да.
— Год с лишком?
— Пожалуй, что так.
— Он узнал об этом больше года назад, шеф. Похоже, что это его не очень-то тревожило. Возможно… Думаю, времени у меня будет достаточно. Только надо, чтобы кто-нибудь за кабинетом присмотрел. Вы разрешите?
Полицейский вышел и, к удивлению Боша, стал спускаться вниз по лестнице. Пленника оставили одного, без охраны, в уверенности, что он не сбежит. А впрочем, даже подниматься со стула ему не хотелось. Он неотрывно смотрел на трубку, из нее доносились едва слышные голоса.
Инспектор вернулся.
— Алло! Внизу один Мазерель. Он только что пришел. Пожалуй, я его отправлю с задержанным, с ночным дежурством он вряд ли справится… Понятно, шеф… Я ему скажу. Он передаст вам черновик моего протокола, я его отпечатал в двух экземплярах, а чистовик пришлю утром с посыльным.
Потом, выйдя в коридор, инспектор крикнул:
— Мазерель! Поднимайся, малыш…
Вошедшему было лет двадцать пять, не больше. На нем плащ наподобие того, какой в первые месяцы пребывания в Париже носил Альбер: на пальто не хватало денег. Полицейский взглянул на задержанного, по-видимому, удивившись тому, что пленник примерно одних с ним лет.
— Он без пальто?
— В таком виде мне его сдали. Верно, оставил его на месте преступления. Так ли это на самом деле, я забыл спросить у комиссара.
— Это правда, — подтвердил Бош, словно желая убедить молодого полицейского в своей искренности. И прибавил: — Шляпа на стуле возле двери.
Шляпу ему кое-как нахлобучили.
— Ты все понял, малыш?
— Понял. Не беспокойтесь.
Выходя из кабинета, Мазерель попрощался театральным жестом киногероя. Бошу стало смешно. Полицейский отомкнул один наручник и надел его себе на запястье.
Машины у подъезда не было. Никто и такси не удосужился вызвать, чтобы отвезти их на станцию. На опустевших улицах моросил дождь, двери кафе были закрыты.
Когда двинулись по тротуару, произошел некоторый сбой: конвоир и пленник не попадали в ногу. Но минуту спустя, краем глаза наблюдая друг за другом, приноровились.
— Сигарету? — предложил полицейский.
Задержанный поднял руку, и конвоир раскурил две сигареты.
По противоположной стороне улицы шла парочка, тоже направлялась к вокзалу, который находился в конце тупика.
3
Остаток ночи Бош провел в каком-то мучительном забытье. Порой он воспринимал и вполне реальные предметы, как, например, автомат по продаже конфет на орлеанском вокзале, но именно их вещественность подчеркивала условность происходящего. Буфет был закрыт. Бар тоже. По залу ожидания слонялось несколько человек, в том числе парочка, которую они видели на противоположной стороне улицы. То, что его разглядывают и обращают внимание на наручники, Альбера больше не волновало. И хотя прикованных друг к другу двое, кто из них задержанный, а кто конвоир, устанавливалось без труда: по отсутствию верхней одежды у Боша, по замызганным брюкам, по грязной обуви.
Пассажиры с нарочито равнодушным видом сторонились его, будто сорвавшейся с привязи собаки, которую удалось поймать и посадить на цепь.
Единственное, что испытывал Бош, это чувство голода. Ощущение поначалу гнездилось где-то в груди, но затем стало сверлить мозг, и когда в углу зала, возле афиши, изображающей пляж Руана, он заметил выкрашенный в зеленый цвет автомат по продаже конфет, аппарат этот стал для Альбера средоточием мироздания.
— Интересно, работает ли этот агрегат? — произнес он деланно безразлично.
Мазерель, пытавшийся отыскать начальника станции, с которым ему нужно было переговорить, проронил: