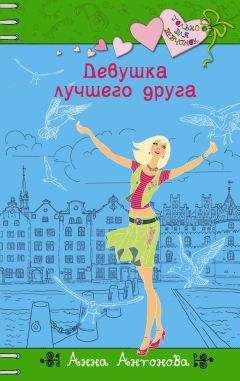Дмитрий Вересов - Черный ворон (Черный ворон - 1)
- Письмецо тебе, отбайло! Из Сибири, я так понимаю, от умученного тобою брата...
- Побойтесь вы, мама. Я-то тут при чем?
- Тобой ли, твоими ли опричниками красножопыми...
- Не моими, мама, а бериевскими!
- Ну и что? Ты в своем деле тот же Берия, тот же Сралин поганый!
Академик заткнул уши, а когда теща вышла, дрожащими руками вскрыл письмо.
Оно действительно было из лагеря, только не от брата, а от племянника Алексея. В нем сообщалось о смерти отца, о грядущем освобождении, которое Алексей осторожно назвал "отпуском". Академик призадумался. Еще год назад он немедленно отправил бы подобное письмо в мусорную корзину, предварительно порвав на мельчайшие клочки. Нет, отнес бы его к Саладинову в МГБ. Посоветовались бы, решили, что делать... Но теперь, после смерти Усатого и разоблачения Берии, все в стране менялось, тихо, но упорно. Еще висели по учреждениям портреты Отца и Учителя, однако вот и контру выпускать начали, реабилитировать даже. И, как знать, если всерьез начнут ворошить прошлое... Тогда и будущего не останется. Надо бы как-нибудь подстраховаться. А так "брат и племянник пострадали от кровавых сталинских опричников"... Спасибо, "мама", хорошее словечко подсказала! Нет, племянничка надо приласкать. На всякий случай.
И полетело на Дальстрой теплое, родственное письмо.
IV
Академик стоял на кухне и задумчиво поедал сгущенное какао прямо из банки. Услышав знакомый змеиный свист шелкового халата, он обернулся и посмотрел на вошедшую жену.
- Тебе пора, котик, - с ласковой улыбкой сказала Ада. - Звонил Руль, он уже заправился и через пять минут будет.
Всеволод Иванович давно уже решил собственной персоной отправиться на Московский вокзал встречать дорогого, хоть и лично не знакомого родственника. В добротном заграничном плаще, в фетровой шляпе, с чуть обозначенной бородкой под губой (как у товарища Булганина!) он смотрелся на редкость импозантно, заметно выделяясь среди замухрышистой вокзальной толпы. Подошел обозначенный в телеграмме поезд, и академик принялся внимательно вглядываться в лица прибывших пассажиров, высматривая племянника.
И когда уже самые густые потоки схлынули, академик обратил внимание на высокого, поджарого, молодого, лет около тридцати, брюнета, в облике которого проступало нечто отчетливо южнославянское - не то болгарин, не то серб. Брюнет, одетый в теплый не по погоде черный бушлат, медленно передвигаясь по платформе, вглядывался в лица. Всеволод Иванович подошел к нему первым и осторожно спросил:
- Вы Алексей Захаржевский?
- Да.
- Алешенька! Родной!
И Алексей забился в крепких, пахнущих "шипром" объятиях.
Черный ЗИМ мчал их по вечернему городу. Дядя раскатисто хохотал, оживленно расспрашивал. Алексей отвечал, сначала сдержанно и односложно, потом все веселее и пространнее. Нет, не потому, что оттаял в родственных объятиях. В школе выживания он научился четко и быстро вычислять собеседника. И, моментально поняв, что дядя только изображает веселье и радость, начал в ответ валять ваньку - другое лагерное искусство, в котором Алексей поднаторел так, что при всем опыте чиновного лицедейства дядя ему и в подметки не годился.
Помывшись, побрившись, сидя за роскошным ужином в дядином махровом халате, Алексей взял еще на несколько градусов выше, осыпая публику анекдотами из харбинской и иркутской (но не лагерной) жизни, пародируя отца и разных знаменитостей, распевая романсы и частушки - сначала a capella, а потом, уже в гостиной, аккомпанируя себе на салонном "Шредере". Публика была в восторге, даже Клава вышла из своей темной кладовки и стояла, привалившись к косяку и деликатно прикрывая ладошкой смеющийся рот. А вот академик быстро начал сникать. Если за ужином он еще сравнительно бодро поднимал бокалы за всеобщее здоровье и отпускал веселые реплики, каждая из которых была тусклее предыдущей, то в гостиной он уже сидел как в воду опущенный и очень скоро откланялся, сославшись на усталость. Видимо, он ожидал, что это послужит знаком ко всеобщему отбою. Но Ада и "мама" оказались непреклонны и неутомимы.
- Клава, постелите Всеволоду Ивановичу у Никиты, - распорядилась Ада. - А то ему будет трудно заснуть от нашего шума. Спокойной ночи, котик!.. Алеша, а что дальше было с этим Гогоберидзе?
Захаржевский-старший открыл было рот, но тут же молча закрыл и поплелся в детскую вслед за Клавой.
С уходом академика веселье возобновилось десятикратно. Алексей исполнил "Турецкий марш" на бокалах с неравным количеством вина. Ада беспрестанно заливалась серебристым смехом, показывая ровные зубки. Анна Давыдовна - так звали тещу академика - тоже разошлась не на шутку: вставляла в Алексеевы частушки совсем уж соленые куплетцы, и даже, усадив за рояль Аду, прошлась с Алексеем в туре вальса, прихватив по дороге возвратившуюся из детской Клаву.
- Уф! - сказала она, рухнув в кресло, - Укатал ты старуху, молодой-красивый!
Алексей приставил ладонь ко лбу и осмотрелся, прищурившись.
- Где здесь старуха? Не вижу старухи. Ада, Клава, вы никакой старухи не видели? Лично я вижу здесь только трех очаровательных молодых женщин...
Самое интересное, что Алексей нисколько не кривил душой. Действительно все трое, даже кривобокая Клава, стали для него красавицами. И вдруг показалось нелепо видеть их здесь, в этом богатом, но безликом доме, где сами стены источают ложь.
- Нет, - сказал он, опускаясь в кресло. - Мы должны жить на воле... на воле... И голова его свалилась на грудь.
- Ой, что это с ним? - воскликнула испуганно Ада.
- Спит, - ответила Анна Давыдовна. - Устал очень.
- Намаялся за жизнь-то, соколик, - сказала Клава.
- А ну-ка, Клава, бери его за ноги, а я за руки, - распорядилась Анна Давыдовна. - Отнесем в гостевую. Так крепко спит, что и будить жалко.
А потом, пристроив его на кровати, она осталась и долго смотрела в его спящее лицо.
- Вот и мужчина в доме, - вдруг сказала она и, наклонившись, поцеловала его в лоб. - Спи, хороший мой.
Так крепко Алексей не спал давно.
За ночь дядя отдохнул. За завтраком он снова сиял улыбками и громыхал смешками, задавая наступающему дню бравурный тон. Ада сидела тихая и сосредоточенная. Теща не вышла вообще.
- Ну-с, и каковы теперь виды на будущее? - спросил дядя, собственноручно подливая сливок в кофейную чашку Алексея.
- М-м-м, - ответил племянник, прожевывая кусок балыка.
- Это в каком смысле?
- В смысле, что балычок у вас очень вкусный... А насчет видов - пока не знаю. Руки при мне, и голова на месте.
- А знаешь что? Покажу-ка я тебе свое хозяйство. Конечно, тебе, музыканту, наше дело может показаться и непонятным, и скучным. Однако же верный кусок хлеба, а постепенно будет маслице, и балычок тоже будет. Золотых гор поначалу не обещаю - лаборанты у нас получают по пятьсот-семьсот рублей. Это не деньги. Но ты еще молодой. Через годик мы тебя в университет поступим, потом в аспирантуру, а там... Если глянется - оформляйся, а оформишься, я дам команду и общежитие будет, и прописка.
Почему-то Алексею захотелось отказаться. Но разбрасываться не приходилось. К тому же дядя был для него ясен не до конца. Возможно, этот наигрыш, имитация родственной теплоты - лишь признак неловкости, вызванной появлением чужого пока человека? Хотелось бы надеяться... Здесь было за что цепляться. Да и новые родственницы такие милые...
Институт произвел на него впечатление заведения фундаментального, хотя и не вполне понятного по своему назначению. Что там гукает в больших автоклавах со множеством ручек и рычажков? Что высматривают в свои микроскопы склоненные умные головы? Что затаилось в закупоренных пробирках, рядами выставленных в лабораторных шкафах? Почему некоторые двери обиты металлом, а у входа в один коридор выставлен военный пост?
В административном крыле все было проще и понятней - ковровая дорожка, двери темного дерева слева, справа. Канцелярия, отдел кадров, замдиректора по науке... А прямо - самая красивая, резная дверь с надписью "Дирекция". За ней все как водится - прихожая для посетителей, из нее вход в дверь с табличкой "Приемная", за ней - еще дверь, там сидит главная секретарша. И только затем собственно кабинет. Скорее, тронный зал. Красный ковер на полу, стены в дубовых панелях, импозантные книжные шкафы, где на видном месте - труды Маркса Энгельса - Ленина. Рядом приметливый глаз Алексея углядел внушительный красный трехтомник "Социалистическая микробиология". Неужели дядька писал? М-да...
- Да ты садись, садись. Тебе чайку, кофейку? Или, может быть, коньячку желаешь?
- Нет, спасибо.
- А я, пожалуй, рюмочку того... С устатку, как говорится... А-апчхи!
- Будьте здоровы, Всеволод Иванович.
-- Слушай, обижусь. Что ты как неродной? Я тебе дядя Сева, а не... Впрочем, в институте при посторонних, конечно, Всеволод Иванович. Договорились?
- Само собой.
"И что это дядька так суетится?"
- И как тебе наше заведение?