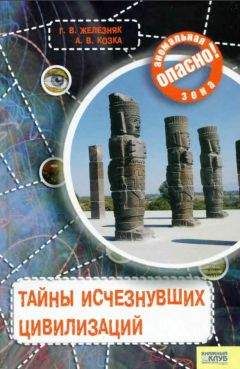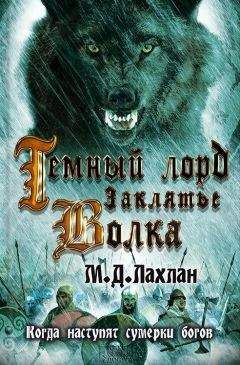Марк Раабе - Надрез
Откуда ты знаешь?
Ты уверен?
…Так и есть, отец… Отец!
…Не вмешивайся…
…Я выстрелю, я сейчас выстрелю…
…я… сейчас!
…Ох… Моя рука, моя рука!
…Он… я попал в него…
…Люк, ты в него попал…
…Да-да… я должен был…
Ты теперь мне поможешь?
Осознание сражает Габриэля ударом топора. История болезни выскальзывает из его онемевшей руки, и кажется, что тьма объяла его. Он больше ничего не чувствует – и в то же время чувствует все. Боль в руке и плече проходит, но не потому, что ему больше не больно, – просто теперь боль пронзает все его тело.
«Я же тебя предупреждал», – плачет голос.
«Почему ты не сказал мне раньше?»
«Я не знал, я же этого не знал».
«О чем же ты меня предупреждал?»
«Не знаю».
«Не знаешь? Ты знаешь меня лучше, чем кто бы то ни было в мире, и ты не знал, что я застрелил своего отца?»
«Я боялся. Я не хотел, чтобы меня наказали».
Глава 37
Дэвид нетерпеливо ерзает в мягком кресле, обитом коричневой кожей. Уже половина шестого, он полтора часа ждет, когда же прекратится это непрерывное шуршание страниц, но доктор Ирена Эсслер всегда подходила ко всему с неизменной тщательностью.
Дэвид смотрит на композицию Гюнтера Юккера на стене за спиной врача. Вбитые гвозди образуют спираль, будто притянутые неумолимым магнитом судьбы. Он думает о Шоне, о ее молчании, о его молчании, о его смущенных и немногословных извинениях. Но что он мог сказать ей по телефону?
Мой брат застрелил моих родителей…
Его разыскивает полиция…
Я его предал…
Вся эта история – как произведение Юккера. Каждый гвоздь повернут в другую сторону, и можно увидеть спираль, только когда смотришь на все гвозди одновременно. У Дэвида как камень с души свалился, когда Шона не стала его расспрашивать.
– Вы понимаете, что я вообще-то должна уведомить полицию? – спрашивает доктор Эсслер. Ее темно-карие глаза – точно старые отполированные камешки для игры в косточки.
Дэвид раздраженно хмурится. Глядя на него поверх очков в красной оправе, Ирена откладывает папку с ксерокопиями в сторону.
– Откуда это у вас?
Дэвид вздыхает.
– Я же вам говорил, сложная ситуация.
Она смотрит на него, восседая за антикварным письменным столом. В точности как тогда. Только кресло тогда было еще больше. А ее волосы были не седыми, а просто светлыми. И очки ей были не нужны. Впрочем, когда речь заходит о человеческом характере, очки ей и сейчас не нужны.
– Почему вы пришли с этим ко мне?
– Потому что я в этом не разбираюсь, мне нужно…
– Нет-нет, – отмахивается она. – Я спрашиваю, почему вы пришли с этим именно ко мне?
– Вы единственный психолог, которого я знаю. И я вам доверяю.
– То, что я провела с вами несколько сеансов психотерапии, когда вы были еще ребенком, не означает, что я не стану учитывать права вашего брата. – Она сурово смотрит на Дэвида, взгляд – как заледеневшая земля.
Он отворачивается.
– Я думал, вы единственная, кто поймет, как это для меня важно.
Низенькая худощавая старушка кажется еще меньше в этом огромном кресле.
– Вы украли историю болезни?
– Нет, – честно отвечает Дэвид.
И все же у него такое чувство, будто стрелка воображаемого детектора лжи вот-вот дрогнет, доказывая, что он говорит неправду. Как можно отвечать честно и при этом так ужасно себя чувствовать? Он надеется, что Ирена больше не будет его расспрашивать.
– Ваш брат знает, что у вас его история болезни?
Дэвид качает головой.
– И что, по-вашему, я должна теперь делать? Речь идет об уголовном преступлении в классическом смысле. Я обязана уведомить полицию.
– Все это случилось тридцать лет назад.
– Убийство – это преступление, к которому не применим срок давности.
Дэвид опускает голову и проводит кончиками пальцев по резному узору на фризе стола. Там изображены какие-то олени, кабаны, зайцы. Письменный стол охотника. Вернее, охотницы. Он сожалеет о том, что пришел сюда. И все же не может сдержаться и не задать вертящийся на языке вопрос:
– Как вы считаете, это Габриэль его убил? Я имею в виду, он же тогда был еще ребенком.
– Я не уверена, следует ли мне высказывать свою точку зрения по этому поводу.
– А если бы вам… все-таки пришлось высказаться?
Доктор Эсслер вздыхает.
– Дэвид, честно говоря, мне не хочется ввязываться в эту вашу историю, о чем бы там ни шла речь.
– Но?..
– Разве вы услышали в моих словах какой-то намек на «но»?
Дэвид смотрит на ее руки, и Ирена тут же прекращает теребить пальцы правой руки и скрещивает руки на груди. Она щурится и смотрит на Дэвида, будто играет в покер и ждет очередную карту. Дэвид молчит, наслаждаясь тем, что пусть и на мгновение, но расстановка сил в комнате переменилась.
– Кроме того, – продолжает доктор Эсслер, – есть и другая проблема. Я, в конце концов, знакома с этим коллегой из «Конрадсхее». Да, это шапочное знакомство, но все же…
– Вы хотите сказать, – медленно произносит Дэвид, – что доктор Дресслер использовал неподходящий вид терапии?
Доктор Эсслер качает головой. Ее бледные губы очерчены резче, чем прежде, и в то же время врач почему-то кажется Дэвиду хрупкой. Как летучая мышь.
– Почему вы решили, что ваш брат убил родителей?
Дэвид смотрит на филигранно вырезанные рога оленя.
– Вы расскажете об этом разговоре полиции? Я имею в виду, разве вы не обязаны соблюдать профессиональную тайну?
Доктор Эсслер проницательно смотрит на него.
– Скажем так, тут речь идет о пограничном случае. Если вы будете откровенны, я готова вас выслушать.
– И вы не передадите содержание этого разговора полиции?
– Не передам.
Дэвид вздыхает.
– Его зовут Сарков. Юрий Сарков. Это он отдал мне историю болезни Габриэля. Он начальник Габриэля. Или был им. Очевидно, Сарков очень давно знаком с моим братом. И пару дней назад этот Сарков пришел ко мне и заявил, мол, Габриэль убил наших родителей.
– Что именно он сказал?
Габриэль задумывается, пытаясь вспомнить точные слова Саркова.
– Что Габриэль застрелил отца. Больше ничего. Я спросил, откуда он это знает. Он сказал, что читал историю болезни. И что хорошо знает Габриэля. Мол, у него нет никаких сомнений и все сходится.
– А у вас есть сомнения? Теперь, когда вы прочли эти документы?
Дэвид все еще смотрит на фриз стола. Резной олень трубит.
– Ему было одиннадцать лет. Всего лишь одиннадцать лет.
– А какой вариант вы бы предпочли? – Доктор Эсслер заглядывает ему в глаза.
– Вы… вы о чем? – ошеломленно спрашивает Дэвид.
– Вы бы предпочли, чтобы выяснилось, что это сделал он? Или нет?
– Я просто хочу ясности, – смущенно бормочет Дэвид.
Вздохнув, Ирена подается вперед, опустив тонкие руки на стол.
– Доктор Дресслер диагностировал у вашего брата шизофрению с приступами бреда и паранойи. По его мнению, болезнь прогрессировала в результате тяжелой травмы, смерти родителей.
– Это я тоже прочел. Но что это значит?
– Я думаю, доктор Дресслер ошибся с диагнозом.
Дэвид потрясенно смотрит на нее.
– В отчетах о состоянии вашего брата до госпитализации говорится, что он обладал интровертированным типом личности, но при этом периодически страдал от приступов ярости, часто необоснованной. В приюте принцессы Елизаветы он несколько раз нападал на директора и избивал других детей, всегда оправдывая свое поведение тем, что кто-то хотел навредить ему или вам, его младшему брату. На первый взгляд – типичные симптомы бреда и параноидального поведения. Эту гипотезу подтверждал и тот факт, что Габриэль начал разговаривать сам с собой и называть себя Люком. Неудивительно, что доктор Дресслер сразу же предположил шизофрению.
– Но почему вы считаете, что этот диагноз неверен?
– С точки зрения современной медицины я бы сказала, что ваш брат страдал от посттравматического расстройства и шизоидного расстройства личности.
Дэвид недоуменно смотрит на нее.
– Шизоидное расстройство личности и шизофрения – разве это не одно и то же?
– В этом-то и проблема. Вероятно, изначально Габриэль страдал от тяжелого посттравматического расстройства. Но изначальная причина травмы была определена неверно. К примеру, обратимся к расшифровке магнитофонной записи от седьмого мая 1986 года. Если рассматривать записанный бред Габриэля не как проявление паранойи, а как флешбэк, то есть репереживание того, что случилось на самом деле, перед нами предстает совсем иная картина.
– Что вы имеете в виду?
– Представьте себе, что к вам поступает пациент, проявляющий агрессию. Вы знаете, что несколько лет назад он обнаружил тела своих убитых родителей, а затем его дом сгорел дотла. Теперь пациент все время говорит сам с собой и ему повсюду мерещатся заговоры, направленные против него или его брата. Естественно, вы будете склонны объяснить его агрессивное поведение чувством бессилия. К тому же кажется резонным, что теперь пациенту весь окружающий мир представляется враждебным. В конце концов, кто-то убил его родителей и уничтожил его мир, верно?