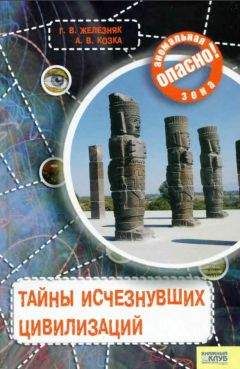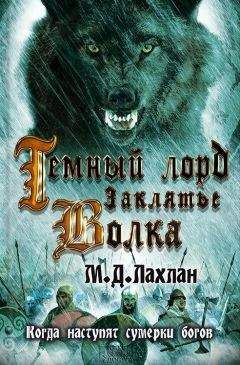Марк Раабе - Надрез
– Точно. Скажите, у вас еще хранится моя история болезни?
– Вы представляете себе, сколько лет прошло? После выписки пациента клиника обязана хранить всю документацию…
– В течение одиннадцати лет, я знаю. Но, может быть, вы могли бы проверить, нет ли их у вас?
– Ну вы и наглец! И вообще, надо будет выяснить, обязаны ли мы выдавать вам ваши документы.
– Так значит, документы все еще у вас?
– Я этого не говорила, но… даже если они еще у нас, то я точно не имею права их вам выдавать.
– Это, знаете ли, странно. Это все же моя история болезни.
– Уверена, профессор Вагнер с вами не согласится.
Профессор Вагнер… Габриэлю вспомнился низенький лысый мужчина с козлиной бородкой. Тогда Вагнер был учеником доктора Дресслера, и Габриэль видел его всего пару раз.
– А вы не могли бы уточнить это? Ну, для меня?
– Послушайте, мне есть чем заняться. Мне недосуг рыться в подвале, перебирая пыльные коробки поисках каких-то старых бумаг. А потом мне за это еще и от шефа влетит.
– Я мог бы зайти и сам поискать, вы мне только покажите, где они лежат.
– Час от часу не легче! Да уж, доктор Вагнер будет просто в восторге, когда узнает, что я дала бывшему пациенту ключ от старого архива.
– Старого архива? – переспросил Габриэль.
Архив находился в сохранившейся с давних времен части подвала, и вход туда располагался рядом с парковкой грузовиков, доставлявших в клинику еду и лекарства.
В трубке повисла тишина. Секретарша, помолчав, раздраженно вздохнула.
– Послушайте, если вы действительно хотите с собой такое сотворить – в смысле, начать рыться в воспоминаниях об этом ужасном периоде своей жизни, – наймите хорошего адвоката. Если вы хотите получить свои документы, только адвокат может вам помочь, господин… простите, как вас зовут?
Габриэль молча повесил трубку. Он выяснил все, что хотел.
И вдруг откуда-то из центрального корпуса доносится истошный вопль. Габриэль ежится. В одном из окон третьего этажа загорается свет, на фоне светлого прямоугольника темнеют решетки. Слышатся мужские голоса, какой-то грохот – и вопль сменяется громким плачем. Габриэлю хочется сбежать отсюда, но уже через долю секунды он превозмогает страх. Чуть приоткрытое окно с грохотом захлопывается, и плач мгновенно обрывается, будто пациенту кто-то перерезал голосовые связки. Только ветер шуршит листвой кленов, играет в кронах высоких, под тридцать метров, деревьев.
«Ты знаешь, что они с тобой сделают, если поймают тут, Люк?»
«Не знаю и знать не хочу. Оставь меня в покое».
«Ты уже ничего не помнишь, да?»
«Оставь. Меня. В покое».
«День промывки мозгов, Люк. Вспомни дни промывки мозгов».
Светлый прямоугольник гаснет, сливается с темной стеной, будто там и не было никакого окна, не говоря уже о комнате, в которой кто-то живет.
День промывки мозгов… Процедура всегда была одной и той же, ведь доктор Армин Дресслер довел ее до совершенства. Уложить пациента, привязать ремнями, потом наклеить на виски электроды. От удара током Габриэль всегда терял сознание. Обычно день промывки мозгов – в клинике его называли «постирушки» – наступал по пятницам, перед выходными, поскольку на выходные в клинике оставалось мало санитаров и пациентов трудно было контролировать. А после этой процедуры больные шарахались друг от друга, как от свежеокрашенных стен, – и не создавали проблем.
Но бывало, что промывку мозгов устраивали и в индивидуальном порядке – тут такую терапию называли «полоскалкой», в отличие от всеобщих «постирушек». Когда Габриэль только попал в закрытое отделение клиники, стоило ему выйти из себя, начать бредить или просто странно себя вести – его ждала «полоскалка». Потом во время приступов ему просто делали уколы. Похоже, электроды больше не помогали. Или они вообще не помогали. Причину смены терапии он так и не узнал.
Габриэль осматривает здание. В корпусе справа на третьем этаже светятся два окна. Там расположена ординаторская и комната медсестер. Прямо под ними раньше располагались две комнаты для посетителей. В одной из них, крошечной комнатенке с привинченными к полу столами и стульями, когда-то началась его новая жизнь.
В тот день к нему в палату явились два санитара дневной смены, Джузеппе и Мартин. Глаза Габриэля были закрыты, но он узнал этих двоих по запаху – в то время его обоняние и осязание были необычайно обостренными, будто он воспринимал окружающий мир не через рецепторы, а получал информацию неотфильтрованной, непосредственно.
Он чуял туалетную воду Джузеппе – санитар душился ей уже четыре дня, потому что шесть дней назад в клинике начал работать Мартин. А вот от Мартина пахло женщиной. Он был придурком, которого природа наделила телом Ахиллеса, и от него – иногда сильнее, иногда слабее – несло духами доктора Ванджи, врача-ассистентки, постоянно косившейся на ахиллесову задницу.
Габриэля мучило то, что он все это воспринимает: запахи, настроения, отношения. Невзирая на препараты, информация из окружающего мира обрушивалась на него проливным дождем, и он ничего не мог с этим поделать. Он был точно замурован внутри своего Я, и все сенсоры были настроены на получение данных – только наружу ничего не поступало, все вентили его сознания были закручены.
– Привет, Счастливчик Люк, – сказал Джузеппе, прекрасно зная, что ему нельзя так называть этого пациента. – К тебе сегодня пришли.
– Плевать, – пробормотал Габриэль.
Из-за лекарств язык у него во рту становился неповоротливым, как толстый бегемот.
Санитары развязали ремни на его руках и груди, пересадили на кресло-каталку, закрепили руки на подлокотниках и повезли в комнату для посетителей.
И там сидел он. Худощавый, с неприметной, как у бухгалтера, внешностью, в светло-сером тренче и темной фетровой шляпе. Шляпу он снял и положил на стол – и еще тогда Габриэль заметил, что его волосы уже начинают редеть.
Джузеппе и Мартин подвезли его на каталке, точно старика (а ведь ему было всего восемнадцать!), и оставили у прикрученного к полу стола – наедине с этим бухгалтером.
Мужчина смерил его раздражающе суровым взглядом. От него несло табаком, хитростью и жестокостью. «Он не бухгалтер. Может быть, врач. Может, кто похуже».
– Привет, Габриэль. Как дела? – В его голосе слышалось раскатистое р-р, русский акцент придавал речи странные, будто угрожающие интонации.
– Я вас не знаю, – равнодушно откликнулся Габриэль. Его голос скрипел ржавой велосипедной цепью, успокоительное в крови тормозило мышление.
– Сарков. Меня зовут Юрий Сарков, и я…
– Я вас не знаю, – отстраненно повторил Габриэль. – Уходите.
Юрий держал спину прямо, точно проглотил стальной брус.
– Я знаком… был знаком с твоим отцом, он…
– Мой отец был сволочью. Если вы были с ним как-то связаны, то и вы такой же.
Юрий улыбнулся. Не натянуто, не строя хорошую мину при плохой игре. Вполне искренне.
«Будь осторожен, Люк! Этот человек – игрок. И он уверен, что выиграет».
Юрий поднялся, взял шляпу со стола и посмотрел на Габриэля сверху вниз.
– В конце концов, речь не о твоем отце. Те времена давно минули. Речь идет о том, хочешь ты отсюда выйти или нет.
«Еще как хочу! Но тебе об этом знать необязательно».
– Оставьте меня в покое. – Голова Габриэля склонилась к плечу, у него больше не было сил ее удерживать. – Вы думаете, я не знаю, что это такой эксперимент? А я в экспериментах больше не участвую. – Он прервался, отвлекшись на вдох, это заняло все его внимание. – Скажите Дресслеру, больше никаких экспериментов.
– Я не врач. Я знаю, Габриэль: врачи хуже чумы. Они тебе говорят, что ты имеешь право думать, а что нет. Они говорят, что хорошо, а что плохо. Но я думаю, они тут все ошибаются. Я думаю, ты сам можешь о себе позаботиться.
«Осторожно, Люк. Он пробрался в твою голову. Не знаю, как ему это удалось, но он теперь в твоей голове».
– Я могу забрать тебя отсюда, Габриэль.
«Он лжет. Это закрытое отделение психбольницы. Отсюда так просто не выйти».
– Ты мне не веришь? – спросил Юрий.
«Вот видишь? Он читает твои мысли. Он знает, о чем ты думаешь».
«Нет. Это просто ты вопишь так громко, что он нас слышит».
«Не может он нас слышать! Но он хитер!»
– Габриэль?
Габриэль поник головой, из уголка рта потекла слюна.
– Я приду на следующей неделе, в пятницу, – говорит Юрий.
– Пятница – день промывки мозгов, – бормочет Габриэль.
– Тогда я приду рано утром. А ты поразмысли над моим предложением.
Размышлять Габриэлю не пришлось. Конечно, он хотел выйти отсюда, любой ценой. И вот ранним февральским утром 1988 года, когда двор клиники замело снегом, Юрий как ни в чем не бывало вывел его из психбольницы.
Габриэль до сих пор не знает, как ему это удалось. А главное, зачем ему это вообще было нужно. Одно он знал наверняка: Юрий стал его опекуном и поручился за своего подопечного. А все остальное – темная история. В конце концов, Габриэль знает, что у Юрия всегда есть причины для тех или иных действий, но об этих причинах он предпочитает не распространяться. Главное, что ему удалось выбраться из «Конрадсхее».