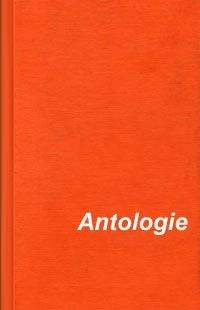Владимир Соловьев - Похищение Данаи
Ни шатко ни валко, оклемался постепенно. А уж то, что лучше, чем в тюряге, — несомненно. Не говоря уже о насильственной отправке на тот свет! Было б даже комфортно, если б не болезненные уколы да произвол медбрата Вовы, который все норовит насрать в душу. Не токмо больных — весь персонал клиники в страхе держит. С меня ростом, нрав необузданный, умишко воробьиный. Но какой же дурдом без садиста-медбрата? Е… всех без разбору: больных и здоровых, мужчин и женщин, даже больничная кошка брюхата ходит. А кто еще, когда дом обнесен каменной стеной с колючей проволокой, а окрест ни одного кошачьего мужика? Ко мне тоже вяжется, да и к Саше присматривается, о чем сообщил Гале, ожидая соответствующей реакции, которой не последовало. Интересно, а кто ей вдувает на воле, пока мы тут взаперти с медбратом Вовой? А не лучше ли повязку на глаза, чем здешнее прозябание? Представляю себе нашу встречу с Никитой — у негр кровоподтек на бычьей шее, у меня — дырка в башке.
А последняя с ним земная встреча стоит у меня перед глазами, будто случилась вчера, а не два года назад, в ту проклятую ночь. Он за так пострадал, а я не за так? Нисколько не удивился, открыв дверь и увидев меня на пороге, словно ждал все равно кого — меня, Сашу, покойницу, собственную смерть. Вот и дождался. Не убить не мог — он оказался на пути между мной и моей красавицей. Добром бы не отдал, а если бы унес втихаря, пока он дрыхнул, завтра же сообщил куда следует. Убедил сам себя, что это он убил Лену, а уж заложить меня ему ничего не стоит. Никаких сомнений, когда душил спящего халатным кушаком, от которого вмиг избавился, а очки нацепить забыл — зря, выходит, тащил бугая к двери, имитируя предыдущее убийство. Судя по надписи, которую изловчился оставить на обороте холста, когда я намылился в гальюн, он просек мои намерения, а может, и просто так написал, на всякий случай, в качестве одной из, а не единственной возможности. Как и подложное письмо, которое я прихватил с собой вместе с подложной «Данаей». Одно знаю: жизнь свою не ценил, устал от нее вусмерть, да и не мила была ему после смерти Лены, потеряла смысл. Но смерти все равно боялся — вот я ему и помог преодолеть этот страх. Сам и спровоцировал меня, заарканив «Данаей» (см. страницы такие-то учебника по виктимологии). А потому прошу рассматривать его смерть как самоубийство, пусть и чужими руками. Бессонной ночью раздумывал о собственной невезухе в этой богооставленной стране. Что говорить, жизнь не задалась. И угораздило же меня прикипеть душой их… к неодушевленной фемине! От нее вся пагуба, злой мой гений. Сам теперь вижу, что бред и дурь, а четверть века подряд в упор не видел. Попутал черт. И куда меня из-за нее занесло! А ведь сколько сил угробил, чтоб отсюда смотаться… Зато чувствую себя теперь окончательно выздоровевшим от детского наваждения. Единственное, что остается, — уничтожить предмет моей прежней страсти. Жаль, нет под рукой оригинала! Или хотя бы одной из Никитиных копий. Рву на мелкие кусочки репродукцию и впервые за два года засыпаю сном праведника. При утреннем обходе док, который уж незнамо за что меня недолюбливает, удивленно поднимает брови, глядя на осиротевшую тумбочку. Скашиваю глаза на урну, где валяются остатки моей возлюбленной.
— Сначала выдали себя за придурка, а теперь притворяетесь здоровым? картавит лысый черт, лыбясь.
— Дело идет на поправку, — делаю я осторожное заявление.
Но он не верит в мое выздоровление, как прежде не верил в симуляцию:
— Знаете, как это называется у нас в отечестве? И рыбку съесть, и на х… сесть. Попали-то вы к нам нормальным, я в этом уверен, несмотря на заключение комиссии, но с тех пор… — И разводит руками. — В любом случае вы представляете опасность для общества, вас необходимо изолировать.
У, как заговорил, падла! Руки чешутся, но сдерживаюсь, помня о медбрате Вове.
У моего соседа жид задерживается дольше да и относится куда как лучше. Мужики, заметил, вообще сочувствуют убийцам на почве ревности. Неверный в корне подход: симпатии и антипатии к убийце должны распределяться в зависимости от качеств жертвы. Убийца комара и убийца слона — одно и то же? А теперь сравните говнюка Никиту с праведницей Леной. Так кому надо больше сочувствовать — мне или Саше? Тем более каково здоровому среди придурков?
А кто в наше время не помешан? Каждый по-своему. У всех свои пунктики, причуды, закидоны и заскоки. Безумие как норма, а изолировать в спецзаведения предлагаю нормальных, если таковые отыщутся. Днем с огнем! Взять хоть любовь, а вокруг нее крутится все на свете: основа основ, фундамент мировых цивилизаций, архимедов рычаг. Любовь — как рак, а культура — его метастазы. Естественно, говорю только о мужиках, потому что бабам невдомек, что это такое. Неспособные на любовное безумство, они не участвуют и в создании цивилизаций и религий, которые взошли на нем, как на дрожжах, будучи его оформлением либо сублимацией. А вот прямые его выражения: ревность, самоуничижение, садомазохизм, чувство ложной вины, комплекс преступления и наказания, агалматофилия, некрофильство да хоть сами наши телодвижения, ужимки и вопли во время полового акта — разве это не любовный идиотизм! Что она с нами творит, какие коленца выкидывает, какие экстраваганзы демонстрирует! Вот я и предлагаю: шизанутых — на волю, а безжеланных импотентов — в психушки!
О чем-то бишь я? Вот и память уже дает осечки. К сожалению, время движется не в том направлении, куда следовало бы. Предпочел бы повернуть его вектор в обратную сторону — в молодость, юность, детство, пусть даже в бессловесное, бессмысленное, слюнявое и сопливое младенчество. От беззубого старика к беззубому беби, жующему собственную какашку. Вплоть до материнского лона: мама, роди меня обратно! А закончить и вовсе сперматозоидом. Пусть там смерть, а не впереди.
После осмотра Саша сообщает, что док настроен оптимистически и надеется скоро выписать его из больницы. От обиды у меня аж глаза застилает. — Но ты же сон с явью путаешь! — кричу я. — Я всегда их путал, — спокойно заявляет придурок. — С детства. У меня есть даже стихотворение на этот сюжет.
— К черту стихотворение! Ты же Лену собственноручно придушил, а теперь живой объявляешь.
Поддел его наконец. Мрачнеет, в глазах слезы.
— Невыносимо думать, что ее больше нет. Нигде! Миллиарды людей, а ее нет. Как же так? И все из-за меня. Если б я только знал! Ему бы уже полтора годика сейчас… Нет, где-то она должна быть. Она есть. Точно знаю. Как же я без нее…
Жаль, конечно, придурка, но себя жальче:
— Вот именно! Один-одинешенек у себя в квартире. А здесь, что ни говори, общество.
— Почему один? А Галя?
— Галя?
Вроде дурачок, а какой предусмотрительный! А если в самом деле не он, а я — ку-ку? Или это я уже здесь повредился в уме? Или его выпущают как тихого помешанного, от которого окружающим никакого вреда? В любом случае он выйдет на волю, а мне здесь отсвечивать до могилы наедине с медбратом Вовой! Да еще взамен Саши подселят какого-нибудь психа вроде меня. Перспектива, скажу вам.
— Мы с Галей будем тебя навещать, — утешает меня мой пока-что-сосед.
Медбрат Вова тем временем наглеет на глазах и подваливает ко мне все чаще. Я б ему, может, и дал — почему не попробовать? Пусть не семь лет, как Тиресий, но хоть несколько минут почувствовать себя бабой — однако по доброй воле, по моему хотению, а он признает только силой, иначе ему не в радость. «Ну и житуха пошла! — жалилась мне днями эта гигантская амеба. — Бабу ни соблазнить, ни изнасиловать — отдается, не дожидаясь, пока у тебя на нее встанет. Иное дело с мужиком — повозишься прежде, чем палку ему всунешь…» И, глянув на меня, плотоядно облизнулся. На регулярной встрече с американским консулом сообщил об измывательствах и поползновениях Вовы, в нарушение прав помешанного человека. Тот обещал поднять вопрос в госдепартаменте. Да что толку — войны из-за меня американский президент не объявит, а медбрат Вова подступает все теснее.
А где-то плещет эгейская волна, воздух звенит от цикад, неистовствуютмаки, ползают древние черепахи и саламандры, солнце, вино, мед и прочее обалденное ретро, а здесь овчинка неба сквозь зарешеченное окно да медбрат Вова во всей красе и силе. Шальная мысль: чтоб не быть изнасилованным, не лучше ль самому отдаться, но, чтоб его ублажить, притворюсь, что сопротивляюсь? Заодно силами померимся.
О Господи! Полная безнадега.
Кранты.
Вот я и спрашиваю:
— За что?
Нью-Йорк. Январь — июль 1996