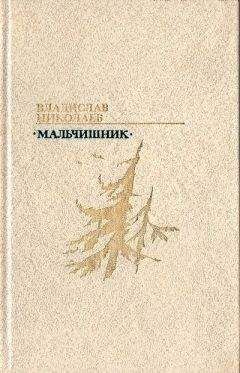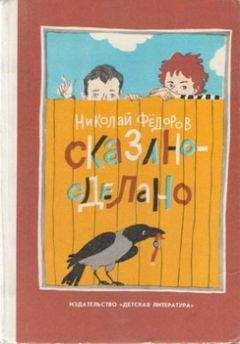Леонид Федоров - Злой Сатурн
— Смотри-ко! — удивился Андрей. — А я тебя смиренным считал. Ну и ну! С самим игуменом повздорил.
— Андрей Артамонович! — взмолился Бортников. — Давайте в Екатеринбург вернемся. Ведь всю работу уже сделали, ландкарты готовы. Уедем скорее.
— Обожди несколько дней. Как только мне полегчает, так и тронемся. Я сам о Мельковке стосковался, — Андрей провел рукой по глазам, словно снимая темную пелену. — Что-то забывать стал. Да… На какое злое дело уговаривал тебя Зосима?
Бортников вспыхнул, жалко скривил губы. Долго сидел, опустив голову, наконец решился и, смотря в глаза Андрею, произнес:
— Велел мне бумаги ваши к нему принести. «Я, — говорит, — их только просмотрю и обратно верну. Великий грешник твой межевщик, или маркшейдер, я все путаю. Покаяться не желает, а здоровьем зело скорбен сделался. Еще, чего доброго, без покаяния преставится. А я, как пастырь, за его душу перед господом в ответе. Он, видать, на бумаге свои грешные мысли записывал. Вот мне и надо знать, о чем за него перед престолом всевышнего молиться!..»
— Ну а ты что? — с беспокойством спросил Андрей.
— Отказался я. Тяжело мне за вину свою перед вами. Еще когда в первый раз в Соликамск приехали, Зосима велел доносить ему про вас: куда ходите, что говорите, с кем встречаетесь. Пригрозил, что сие дело богу угодное: «Грешник большой твой Татищев. Надобно его на путь праведный наставить». Я по простоте своей поверил. А когда вы в Растесе, меня спасая, чуть сами не погибли, все во мне перевернулось. «Человек мне добро сделал, а я ему злом плачу». И до того мне лихо стало, что руки на себя готов был наложить.
Андрей погладил горячей ладонью руку Бортникова:
— Добро и зло, Ванюша, всегда рядом идут. Где между ними грань проходит — ты знаешь? И я не знаю. Ведаю лишь одно, что часто добро ведет к злу, а зло добром оборачивается. Вот и ты, допрежь что-либо сделать, сперва обдумай, к чему оно привести может. Тогда уж и решай. А теперь ложись спать. Только испить дай.
Среди ночи Андрей проснулся как от толчка. «Бумаги», — пронеслась в голове мысль. Хотел встать, но не смог. Тело сделалось настолько тяжелым, что уже не подчинялось воле.
Было тихо, только в углу, за занавеской, мерно посапывал Бортников, да за печью шуршали тараканы. Дважды прокричал петух — глубокая ночь, а на дворе светлынь. Лунный свет залил землю, Пробился в окно и улегся на полу голубоватым холодным пятном. Шальной ветер раскачивал голые ветки осокоря, и тени от них, падавшие в комнату, метались, словно живые. В горячечном бреду казались они Андрею костлявыми руками.
Он метался и стонал, а руки тянулись все ближе. Их было много. Подобно змеям обвили они его, стали душить, рвали грудь и давили сердце. Андрей задыхался, а перед мутнеющими глазами лунное пятно колыхалось, ширилось, обретая форму шара с крутящимся вокруг ярким кольцом.
«Сатурн!» — догадался Андрей и тут же увидел, что вовсе и не Сатурн это, а злобное лицо Зосимы.
Он звал на помощь Ерофея, Василия Никитича. Ему казалось, что он кричит на весь дом, а помертвевшие губы только чуточку дрогнули.
Тьма опустилась на глаза, потухла, и растворилась во мраке мерзкая рожа Зосимы. Откуда-то издалека доносился затихающий голос Бортникова, звавший его. А потом тишина смешалась с тьмой…
Долго сидел возле постели Татищева Иван, смахивая ладонью слезы. Наконец встал, осмотрелся. Взгляд задержался на столе, где лежали бумаги. Сразу вспомнилось требование Зосимы.
«Солгал монах! Не для доброго дела нужны ему бумаги. Опять что-нибудь злое умыслил. Ну, обожди!..»
Изредка взглядывая на кровать, где лежал с накинутым на лицо платком Андрей Татищев, Иван, сидя на корточках перед горящим очагом, торопливо разбирал исписанные листки: «Успеть бы до рассвета, покуда не разнеслась весть о кончине Андрея Артамоновича!»
Уже сгорели страницы, на которых Андрей записал свои мысли о положении кабальных, раздумия о качестве подневольного труда. Вслед за ними в очаг полетели письма Василия Никитича, в коих речь шла совсем не о заводских делах, а о бедствиях государства в связи с регентством Бирона.
Взгляд Ивана остановился на листочке с небрежным чертежом небесной сферы, возле которого вилась четкая надпись: «Полная мудрость». Тут же рядом какие-то вычисления. Чуть ниже тонким гусиным пером рукой Андрея начертано:
«Сатурн небесный гневливый содеял злобу. Какую б звезду иную иметь?»
С недоумением вглядывался Бортников в непонятные строки и, видимо, все же решив, что опасности бумага не таит, отложил в сторону.
Когда все было просмотрено и страницы, могущие принести какую-либо беду, сожжены, Бортников принялся за книги. Каждую тщательно перелистал, чтоб случайно не пропустить забытый листочек. И в одной между страниц обнаружил письмо: «Милый мой Андрюша…» Дальше Иван читать не стал, заглянул на оборот и в конце увидел приписку: «Не забывай свою Настеньку!..» Не та ли это женщина, о которой допытывался игумен?
«Ну, нет, Зосима Маковецкий! Сие послание не получишь!»
Скомкав письмо, Иван бросил его в огонь.
Из книг только одна — «О рудах, обретающихся в земле» — заинтересовала Бортникова. И не содержание ее, а необычная толщина задней корки. Хмыкнув, он колупнул ногтем, содрал наклеенную бумагу, нашел небольшую тетрадь.
«С чего бы так потаенно держал Андрей Артамонович сию рукопись?»
Двинув ближе шандал и с трудом разбирая латынь, Бортников начал читать.
Только когда рассвело и на восходе небо окрасила розовая заря, он оторвался от тетради. Быстро оглянувшись, сунул ее за рубаху…
Еще не успели вернуться с похорон служащие Пермского начальства, как в контору заявился игумен. Дождался капитана Берлина и о чем-то долго гудел у него в кабинете. После капитан принес все бумаги горного межевщика и вместе с Зосимой до самого обеда читал их.
Ушел игумен хмурый, недовольный. Бортников, глядя в окно, как понуро вышагивает Зосима, злорадствовал:
«На мякине думал провести, ворон? Ан и мы не лыком шиты!»
На другой день ученик Татищева Иван Бортников выехал из Егошихи. Под сиденьем возка в кожаных мешках лежали ландкарты камских земель и бумаги покойного межевщика, врученные ему Берлиным для передачи в Канцелярию Сибирских и Уральских заводов. Чуть поотстав, на крепких мохноногих конях покачивались в седлах двое драгун — капитан Берлин позаботился об охране.
Впереди не близкий путь через Каменный Пояс. В Екатеринбурге, поди, рябина цветет, а здесь, в горах, под темными шатрами елок, еще встречается снег. Но пахнет настоящей весной, вокруг стоит разноголосый свист и теньканье птичьей братии, зеленеют косогоры, на мокрых лугах золотится калужница.
Трясясь в возке, Иван настороженно поглядывал по сторонам, пытаясь узреть опасность, таящуюся в непролазных ельниках. Изредка касался рукой груди, проверяя, на месте ли спрятанная под рубахой заветная тетрадь.
«Ужо в Екатеринбурге дочитаю. Видать, книжица сия хоть и рукой писана, а подобна пороховой бочке. Недаром так ее Андрей Артамонович упрятал. Только бы довезти в целости, уберечь от Зосимовых доглядчиков!» — думал Иван и поглаживал сунутый за пояс маленький шведский пистолет, взятый им на память о человеке, который научил его не только землемерии, но и чему-то гораздо большему.
Кони, дробно выбивая копытами по каменистой дороге, мчали Ивана к отчему дому на берегу таежной Исети. А навстречу над головой, высоко в голубом небе, возвращалась с юга в родные края запоздалая журавлиная стая.
(1958—1968 гг.)
Конец Гиблой елани
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава первая
За окном только начался серый рассвет, когда Севка проснулся от треска будильника. Очень хотелось спать. Вчера поздно вернулся с танцев — провожал Ингу. У самого дома трое леспромхозовских ребят пытались наломать ему шею: «Не ходи с нашими девками!» Хорошо, что силенкой в батю пошел, а то за милую душу накостыляли бы.
Севка пощупал опухшее ухо и поморщился. Нехотя слез с полатей, включил свет, заглянул в горенку, где спали родители, в кухне присел к столу. Наскоро выпил кружку молока, съел яишенку, приготовленную матерью с вечера, и, стараясь не шуметь, стал собираться.
Натянул брезентовую куртку, поглядывая в зеркало, надел фуражку с морским «крабом» и, взяв чемоданчик, шагнул за порог.
На крыльце его охватила промозглая сырость. Все кругом затянул густой туман. Несколько дней перед этим стояло ненастье, лили дожди, упругие и холодные. Только со вчерашнего вечера прояснило, а перед утром незваным гостем пожаловал туман.
Шлепая по грязи, Севка спустился к реке. Где-то близко у перевоза, невидимые в туманной пелене, ржали кони, скрипели колеса телег, доносились приглушенные голоса, смех, ругань.