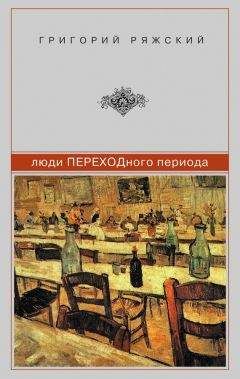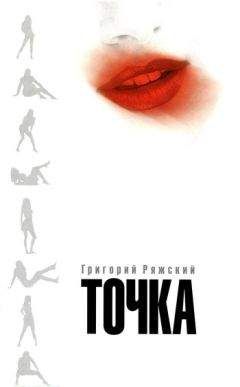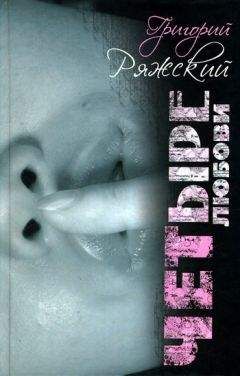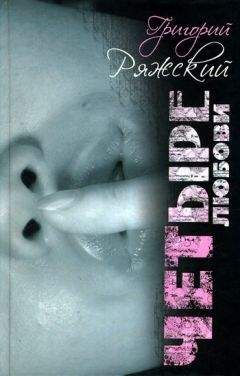Григорий Ряжский - Музейный роман
Она заняла место в очереди, выбрав одну из нескольких дверей, к которым тянулись страдальческие людские цепочки. Для неё важны были две вещи: избавить ногу от дополнительной нагрузки, не поднимаясь выше первого этажа, и чтоб инспекторша, любая, обнаружилась в кабинете в единственном числе. Дальше, как бы ни сложилось, работать будет уже не должность и не обязанность, а исключительно страх и, возможно, даже интерес к чёртовой колдунье. Да, и надо ещё подумать, где ей тут ночевать в этом незнакомом месте: полноценную гостиницу она вряд ли потянет, а идти на постой — боязно и непривычно.
— Следующий!
Резкий выкрик из глубины кабинета отвлёк её от накативших мыслей.
Ева Александровна поднялась и приоткрыла дверь в кабинет:
— Можно?
Она уже знала всё наперёд. Ну почти всё. И от этого ей внезапно стало беззаботно и легко. И она улыбнулась. Так, не снимая улыбки, и вошла, помогая себе палкой и не без труда удерживая равновесие на гладком ламинате. Тётка вполне пенсионного разлива, что трудилась за единственным столом, головы не подняла, но и прочего вполне хватило, чтобы обнаружить в ней телесные изменения, образовавшиеся со времени их последней встречи. Лицо у той заметно округлилось и подпухло, загнав глаза в глубины меж щек и бровных валиков. Руки добавили морщинистости, но зато и кольца сменились на более объёмные, хотя и не менее дурновкусного образца, если сравнивать с прошлыми. Облик завершала увесистая блямба неизвестного материала с тёмно-бордовым камнем по центру, прикрывающая складку между вспученными верхами рыхлых грудей. Тётя расписалась в документе и кивнула на стул перед собой:
— Чего у вас?
Иванова опустилась на стул, прежде пристроив палку в углу. Ровно как и шестнадцать лет назад. И сдержанно пожала плечами:
— У меня всё в порядке, надеюсь, у вас тоже.
— А чего пришли? — начав просматривать следующий документ, пробурчала инспекторша.
Ева вздохнула и решила перейти к делу, понимая, что затеваться с новой игрой хоть и соблазнительно, но уже не столь важно для её конкретной цели.
— Чего пришла? — спокойно переспросила она. — Пришла, чтобы убедиться, что вам по-прежнему ничего не грозит. Если, конечно, вы так же хорошо делаете свою новую работу. Вы же недавно тут вроде бы? Там-то, поди, наследили так, что чертей выноси, а всякому времени, как известно, свой срок… — и невозмутимо улыбнулась, — особого режима.
Тётка медленно подняла глаза и вперилась в хромую посетительницу, ту самую. Она узнала её сразу, как только негромкий, размеренный визитёршин голос произнёс это «по-прежнему». Да, она узнала. Но в первый момент узнавания побоялась взглянуть на эту тихоголосую ведьму, всё ещё пытаясь отвести от себя наваждение прошлого ужаса. Однако пришлось — взглянула. И поняла. И сообщила, опережая любую просьбу или слово:
— Нашли, значит… Что ж так долго искали-то, я ведь ни от кого не прячусь, Ева Александровна. Я же — наоборот, со всем уважением к нашим людям, сами знаете.
Сказала, и всё тем волчьим нюхом зачуяла уже, что бить не будут, грозить не станут, шантаж не планируют. Просто — нужна. И тогда она добавила, подобрав лицу подходящее выражение из смеси учтивого внимания и пожизненной готовности служить хорошим людям.
— Вижу, вижу, что даже не помышляете помешать… — засмеялась Ева, — и знаю, что не опасаетесь меня, и это как раз совершенно соответствует цели моего визита.
Тётка выдохнула в стол и глуповато заулыбалась нежданной гостье — на этот раз, как показалось Еве, вполне искренне. Так улыбаются, подумалось ей, приговорённые к виселице, когда в последний момент приходит извещение о помиловании при снятии всех обвинений.
— Так вы ж смелей тогда, Ева Александровна, не конфузьтесь. Я вся внимание, если только чего в моих силах.
Инспекторша поджалась, взяла ручку, приготовила лист бумаги, сосредоточилась. Верноподданнически уставилась в хромую.
— В общем, так, — задумчиво выговорила Ева, — мне бы выяснить, когда и в какой детский приют меня доставили сразу по рождении. Или куда ещё. И кто принимал, если сохранилось.
— И всего-о-о-то? — удивлённо протянула тётка.
Казалось, она была несколько разочарована пустяшностью такой невеликой просьбы.
— Да, это всё, — утвердительно кивнула Ева Александровна и положила перед той паспорт. — А выпускалась детдомом номер семнадцать, в девяносто восьмом, ну, вы помните, наверно. Дальше — ваш ребус, надеюсь, вы его разгадаете.
И внимательно посмотрела в глаза чиновнице. В глазах этих вновь обнаружилась куча всякого, о каком Ивановой даже не хотелось думать, чтобы и тётку попусту не травмировать, и себя не отвлекать по ненужному для дела поводу. Она даже не стала накоротке заглядывать в раздел параграфа «жизнь — смерть», чтоб уж совсем дистанцироваться и от возможной сочувственной жалости, и от въедливого чувства настырной справедливости.
— Суток хватит вам? — дополнительно уточнила она. — А то я тут проездом, знаете ли, и чем скорей, как говорится, тем менее затратно для всех, да?
— Да о чём речь, родная вы моя! — Казалось, тётка даже немножечко возмутилась подобным недоверием дорогой её сердцу гражданки. — В соплю разобьюсь, Ева Александровна, а для вас сделаю! — уже почти выкрикнула она, потеряв последний страх. — Хоть и не по нашему ведомству это, сами понимаете. Тут же архивы тронуть надо и кой-чего ещё, тут и там.
И намекательно кивнула на окно и ещё дальше, в сторону вполне обезличенного, но всё ещё таинственного пространства.
— Вот и ладненько, — согласно кивнула Ева, — завтра в это же время я у вас. А теперь пойду, мне ещё на ночь устраиваться.
И подхватила палку.
— Ой! — почти с восторгом воскликнула инспекторша. — Так это… давайте к нам, может, драгоценная вы наша, у нас с мужем площади этой уймища, а сын-то отдельно уж который год.
Тут она на мгновенье сконфузилась, сообразив, что перешла запретный рубикон, но, резко кинув на посетительницу испытующий взгляд, так же быстро и успокоилась.
— Большое спасибо, — вежливо отозвалась Ева, — но думаю, я вполне решу этот вопрос сама.
— Тогда удаченьки вам, дорогая, завтра придёте — всё будет тики-тики, даже не сомневайтесь.
На этом и расстались, оставшись каждый со своим. Одна — со слабой надеждой на встречу с прошлым, другая — с известием о помиловании в результате отмены очередного смертного приговора.
Она вышла из здания загса и осмотрелась. Вариантов было два, и оба, считай, пропащие, если принять во внимание первый жизненный опыт в подобного рода делах: квартирное бюро или же самая недорогая гостиница, каких нету в природе и особенно в провинции. Однако ни первый, ни второй вариант не случился, поскольку сработал третий, не предусмотренный даже ею самой. Николай всё ещё нервически наворачивал мелкие круги неподалёку от дверей учреждения, в скорбном молчании запаливая одну сигарету от другой. Судя по окуркам, отработал пачку, не меньше. Заметив Еву, бросился вперёд, перехватил её руку, прижал к себе и, ни слова не говоря, потащил в сторону, позабыв на время о хромой сущности бывшей пассажирки. Внезапно остановился, выдохнул, начал говорить, мелко, сбивчиво, хрипло:
— Вы это, гражданочка, вы того… вы, пожалуйста, обождите, если можно… я тут вас ожидаю, извините, конечно, вот думаю, уйдёт она, в смысле, пропадёте навсегда, а я пропущу, не скажу, не спрошу… — Он перевёл дыхание и, не дав никак отреагировать, продолжил извергать слова, путаясь и волнуясь: — Вы вот сказали про меня, про нас про всех, а я-то поначалу не сообразил, что это ж и есть настоящая правда, какой честней не бывает и страшней тоже… Галина-то моя, я гляжу, какой уж месяц хитрит чего-то, и Серёга, смотрю, заикается, как не родной, а только я, верно, идиотничал да не хотел ничего такого видеть… а про собаку точно вы сказали, что не поедет с ней, даже если б позвала. Я ж её со щенка выкормил, даже когда от чумы загибалась, холера такая, а я всё колол её, колол так и сяк, нос щупал на жар, на холод, на остальное всякое, и сам же всё, сам, никому не доверял, так куда ж она теперь с ними, зачем, к кому… Вы ж ведь как в воду мою заглянули, ну прям как обухом по кумполу, с налёту, со всего размаху вашего — и всё в масть, в цвет, прям в лобину самую промеж рог моих паскудных…
Ева Александровна произвела робкую попытку мягко высвободить руку, но своим судорожным прихватом Николай будто запер её в стальные клещи и никак не отзывался на потугу хромой гражданки рассоединиться телами. Иванова же, стоя чуть в стороне от учреждения, всё ещё находилась под пытливым патронажем неудачника-возилы, добивающегося от неё неизвестно теперь уже чего. Она вполуха слушала несчастливца Колю и думала о том, что наконец-таки ей подфартило выбраться во внешний мир, в самый что ни на есть натуральный, трепетный и живой, больной своими недотёпами и радостный всякими чудаками, но по-любому так мало изученный. Хотя, казалось бы, сядь на поезд, и вот она, радость: только успевай мысленно перелопачивать основоположников немецкого, скажем, художественного романтизма с конца, к примеру, восемнадцатого века до середины, допустим, девятнадцатого, пересматривать главное из того, что создало ту чудную эпоху, что затронуло душу и самою` нежную плоть. Всех их. Юхана Кристиана Клаусена Даля с его «Вечерним пейзажем с пастухом», или с «Видом из окна на дворец», или «Извержением Везувия». Или взять Йозефа Антона Коха с его «Героическим пейзажем с радугой» — просто сердце останавливается от этой картины его. Ну а если уж до конца идти, то и Каспар Давид Фридрих с «Парусником», «Возрастами» и «Мужчиной и женщиной, созерцающими луну». И под завязку — Карла Шпицвега с «Прощанием», «Любителем кактусов» и наилюбимейшим от него же произведением, автора которого Ева сразу признала ещё на первой устроенной для себя проверке, — «Любовным письмом»… Или даже не так, иначе — успеть всего лишь, глядя на пробегающие мимо столбы, телом своим хромоногим соединясь со звуком, рождаемым перестуком железных колёс, мысленно посчитать на две, или нет, на четыре четверти, тридцать тактов в минуту — чистый ча-ча-ча. Или нет, снова не так, а вот так, как в румбе «Гуантанамера», — подчёркнутое обыгрывание первой доли: восьмая, восьмая, четверть — первая доля. Эротика танца, драма музыки, экспрессия чувств, эстетика зрелища! Или в самбе — то же почти, но и опять не так: ботафого, корта-джака, вольта, виск, крузадо, крис-кросс — пружинистые мягкие движения сменяют шаги с каблука!.. — и вот он уже, славный город Малоярославец с его скучной и нечистой привокзальной площадью, с бездарно-напыщенным в лучших советских традициях, витиевато-разбитным зданием городского загса. Ну и всё прочее здесь же, включая непутёвого Николая с другом его Серёгой и неверной женой Галей, с преданной, но тоже непутёвой псиной, хотя и не сдохшей от чумы, и дочкой, которая, как ни крути, станет со временем незаменимой для всякого дальнобойщика трассовой плечевой.